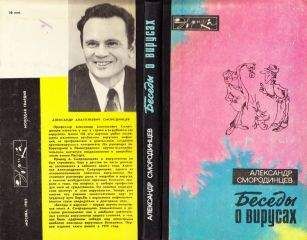— Почему это не моего ума? — с выражением тонкой иронии на лице спросил Юра.
И тут Богданов ка-ак даст ему по выражению тонкой иронии!
«Опять!» — мелькнула жалкая мысль и вдруг придала Юре негаданную силу. Устояв на ногах, он саданул Богданову аперкотом, да так, что тот, закрываясь, стал отходить и, наконец, сказал:
— Всё, хватит. Квиты. Умеешь.
Дополнительное, теперь уж никому не нужное, а потому грустное открытие: у Богданова брови тоже чуть сросшиеся. Не такая уж это редкость среди человечества…
Двинулись дальше.
После удачной драки почему бы и не спросить:
— А чего это они… Твои. Чего они развелись?
— Вообще-то не твоего это ума… — Валентин замолчал, но вдруг бешено заорал — так, словно Юра давно: ежедневно, ежечасно, ежеминутно — пытал его этим вопросом, выматывал всю душу: — Не знаю!!! Понял?!! Не знаю!!!
А потом вдруг спросил, осенённый весёлой догадкой:
— Ты Юркиного отца, капитана, моим отчимом, что ли, считаешь?
— Ну да!
— Дурила! — впервые в жизни добродушно сказал Валентин.
Юра совсем растерялся и умолк — теперь уже окончательно.
Незаметно подошли к Ингиному дому. Валентин вдруг замер и невольным движением остановил Юру. И во все глаза смотрел вперёд.
Калитка Ингиного дома открылась, из неё вышла пёстрая компания. Какие-то женщины, Матильда и, наконец, такса. И среди них… Капа!!!
— Мама! — резким, ломающимся от волнения голосом вскрикнул Валентин.
Капа — мать Валентина?!!
Потом Юра увидел в проёме калитки Константина Петровича. Они — эти трое — вдруг выкристаллизовались и выступили из окружающих монолитным треугольным кристаллом. Они — трое — были вершинами, а взгляды их, взволнованно обращённые друг на друга, — сторонами треугольника.
Отец и сын медленно двинулись навстречу друг другу.
Юра быстро пошёл прочь.
— Юра! Постой! — закричала Капа и тем, наверно, уничтожила величие момента. Но она, видимо, считала, что никакого величия и никакой торжественности здесь и не нужно, бросилась догонять Юру…
Дома Юру уже давно ждали. Был накрыт стол.
— Садись, сын, — значительно сказал отец.
— Что, будете ругать? Врать — нехорошо? — усмехнулся Юра.
— Да, нехорошо, — вздохнул Голованов-старший.
— Вот, пожалуйста, — всё ещё хорохорился Юра, кивнув на увядшие ромашки-лютики, которые мать зачем-то поставила в банку с водой. — Гербарий.
— Да оставь ты свой гербарий! — в сердцах сказал отец. — Неужели ты думаешь, что мы не поняли бы тебя?
В тоне отца было что-то непростое — вроде бы обида и одновременно как бы грустное восхищение. Мать вытирала слёзы.
— Я искупаюсь, — нарушил молчание Юра. — Всё-таки чистота — залог здоровья. Это кроме шуток.
Юра скрылся в ванной, но тут же высунул голову.
— И вообще… — сказал он, покраснев. — Я по вас здорово соскучился.
Вот оно — долгожданное, заслуженное наслаждение — вытянуться в горячей, шевелящейся по дну ванны зеленоватыми извилистыми тенями, домашней, родной, «ванной» воде!
Это тебе не колючий, мрачный, пронзаемый всеми земными ветрами и шумами стог. Вспомнил — и замелькали вдруг цветные фотографии, виденные на капитанской даче. На них была Ольга. А на Костиных чёрно-белых — рыжая Капа. Только на них цвет её волос не был виден.
И это последняя-распоследняя догадка. Всё. Теперь и догадываться больше не о чем, и вспоминать больше нечего.
Разве что пятнадцать минут назад…
— Ну, спасибо тебе, — сказала Капа. — Чудо ты моё!
Она приблизила своё счастливое, смеющееся, сияющее всеми рыжими веснушками лицо к Юре и поцеловала его.
Конец