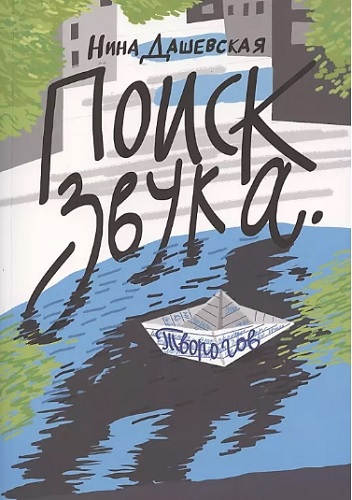и я такой плыву, смотрю в высокое небо Аустерлица. Красота. Только лицо у меня синее, раздутое. Фу! Вот наградили же воображением!
— У меня и врагов нет, Варь. Можно ведь так жить, чтобы не было врагов. Никого не трогать. Никаких интриг — я просто курьер. Яндекс-еда. Жёлтая куртка, жёлтый рюкзак. Мне достаточно.
— Герой-одиночка, значит, — Варя хмыкает. — Ну-ну. Скажи, а путешествия? Неужели тебе не хочется — заработать на путешествие? Я вот очень хочу. Море и горы. Исландия… Гренландия.
— Зачем?… Мне моего города хватает, — говорю я.
— Врёшь.
Да, пожалуй, тут она права. Про путешествия я вру.
— Ты никакой не курьер, Вань. Ты чего-то такое будешь делать, — говорит Варя. — Может, писателем будешь, например.
Я даже поперхнулся своим столовским чаем. Что вот она такое говорит?
— Перестань. Писатель — это работа. Это значит, должен писать, а я не хочу. Я никому ничего не должен.
— Но пишешь же.
— Чего?
— Сочинения вот. Пишешь, как писатель, обещаешь — делаешь. Это разве не работа?
— Ну, нет, это другое. Моим сочинениям цена — плюшка и чай. Я же не напрягаюсь, просто пишу. А писателем — это надо думать, как сделать лучше, что писать, как писать, что останется после тебя… тьфу, брось.
— Да что ты, Вань! Никто не думает, что это останется после него, просто пишут, да и всё. Если писать «в вечность» — слова не напишешь.
— Ну, нет. Если от балды писать — почему потом кто-то должен это читать? Твой поток сознания?
— Почему нет? Если интересно? Вот мне сейчас интересно с тобой говорить. Ты же не оттачиваешь сейчас каждое слово, не для вечности же — просто для меня, даже и не для меня; просто говоришь, как думаешь. И мне интересно. И писать можно так же.
— Говорить — другое дело. Скажи, разве тебе было бы интересно это читать? Вот это — что мы сейчас говорим? Вообще неинтересно.
Вот Варя балда. Правда. Дарит мне блокноты, будто я буду туда что писать. Я не буду! Потому что если начнёшь — надо закончить. А я терпеть не могу слово «надо».
— Ты слишком серьёзно к себе относишься, Иван, — говорит Варя.
Вот что за человек? Обязательно надо меня поддеть. Если я всю дорогу доказываю, что я никакой не писатель. А она говорит, что да. Кто ко мне серьёзно относится — Варя или я?
— Хорошо; например, ты права. И я стану прямо писатель. Буду сначала писать вот так, просто, как мы с тобой говорим. Потом мне захочется чего-то ещё, проснётся честолюбие или просто желание сделать лучше, раз уж делаешь. И я начну писать по три дня каждую строчку. Закопаюсь. А потом у меня наступит какой-нибудь кризис. Я сопьюсь, пойду по дворам и умру под забором. Хочешь так?
— Нормальное у тебя представление о жизни писателя! По-твоему, что — все спиваются и мрут под заборами?
— Нет. Но скажи, разве кто-то есть, кто писал и был бы счастлив?
Варя смутилась. Остановилась даже.
— Подожди. Ну, неужели нет? Может, детские? Чуковский?
— Варя! Да он никакой не детский, да это… Что ты хоть такое говоришь, надо так ткнуть пальцем в небо. Нашла счастливого человека! Ты его дневники читала?
— Чьи?
— Чуковского!
Варя вдруг смотрит на меня очень серьёзно, даже с каким-то интересом.
— Ваня. Ты что, читал дневники Чуковского? Правда? Есть что-то такое, чего ты не читал вообще?
— Да просто у нас дома есть, папа любит. Но я не читал, не смог. Так, заглянул одним глазом. Мне хватило. Но если ищешь счастливого писателя — это вообще не про него, это на другом полюсе.
* * *
У неё очень длинный нос. Она им… ну, холодно, и она им хлюпает, как и я. Смешно так… Несимметричный нос. Прямо буратино, честное слово! Она ужасно некрасивая, правда. Что они все в ней находят?… И длинная, как каланча. Я иногда смотрю на её нос, такой треугольный, геометрический. Не могу никак перестать смотреть. И думаю про катеты и гипотенузы. Синус… синусит. Что, скажете, это никак не связано? А чего тогда русский язык, великий и могучий? Знаешь что, Тургенев… иди отдохни пока.
Интересно, если целоваться — мешает такой нос? Надо будет у Джеффа спросить.
Тьфу, чёрт. Я же обещал себе не думать про Джеффа. Мало ли, что я там видел. Может, это вообще не она была. (Ну, а кто? У кого ещё кроссовки такого размера?…) Интересно, почему я не могу просто у неё спросить?
— Варя, — говорю я.
Вот сейчас спрошу. Прямо сейчас.
— У тебя никогда такого не бывает, что ты начинаешь говорить в выключенный телефон?
— Ну, бывает. Когда нужно уйти… И делаешь вид, что тебе звонят…
— Нет, не это. А когда тебе это вообще не нужно, низачем. Едешь, например, в троллейбусе. И говоришь в выключенный телефон для какой-нибудь незнакомой тётки на соседнем сиденье. Придумываешь себе другую жизнь.
— Зачем?
— Я же говорю. Ни для чего; просто. Говоришь: «Да, я сейчас приеду и покормлю крысу». Хотя никакой крысы нет. Понимаешь?
— Понимаю. Ну, ты и псих, Творогов.
Я улыбаюсь во весь рот. Получил своего психа, добился, чего хотел. Джеффа небось психом не назовут.
Небось. Хорошее имя для крысы. Если у меня будет домашняя крыса — так и назову, Небось. А чего? «Небось, будешь сыр? Проголодалась, Небось?…»
— Вань, — говорит она. — А ты иногда представляешь себе, что у тебя длинные-длинные ноги. И ты идёшь по крышам. Перешагиваешь улицы. Понимаешь?
— Понимаю. Конечно, у меня так бывает.
Вот тебе, Варя. Я не скажу «ну, ты и псих». Это тебе за Джеффа. Джефф не перешагивает с крыши на крышу. Это я точно знаю.
* * *
Светает. То есть ещё нет,