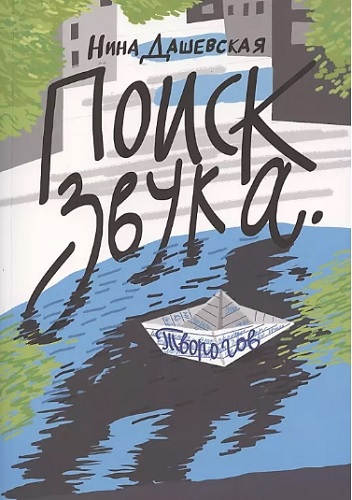но только что совсем ничего не было видно в комнате, а сейчас проясняется. Я читаю. В соседнем доме горит окно, только одно. Кто там живёт? Что он делает, тоже читает?
Или работает?
Внизу, на улице, вдруг прорезается чей-то голос. Человек говорит по телефону. Причём по-французски.
Мир поворачивается ко мне какими-то другими, тайными углами, которых другие не видят. Мир, в котором случайные прохожие в четвёртом часу ночи говорят по-французски. Хочется читать дальше, но читалка садится. А вставать и искать зарядник — шуметь. Родители проснутся ещё, а у мамы завтра спектакль… будет злиться на меня. В общем, мне лень искать зарядник, если честно.
Только что закончилась глава. И я думаю — начинать новую или всё же спать? Понятно, что спать! Лучше остановиться сейчас, чем потом читалка сядет, на полуслове. Так что спать, решаю я.
…И начинаю читать следующую главу.
* * *
— Иван, можешь остаться?
— А чего я, Марья Михайловна, зачем?
— Поговорить нужно с тобой.
Вот. Зачем это ещё нужно. Мне вот совсем не нужно. Между прочим, Марьяша взяла и перекрыла мне источник дохода… И это… В общем, дело не в деньгах. Просто — нет смысла теперь писать сочинения, совсем. И мне это обидно. Пару раз написал какой-то жалкий реферат по истории, но с историей я не очень. В общем — написал, но так… вынужденно. А мне так не нравится.
Марьяша смотрит на дверь, а в двери — Джефф и Стоун. Спасатели.
— Закрой дверь, Женя, пожалуйста, — говорит им Марьяша. — Нечего вам с Володей тут делать.
— Мы Творогова ждём, — бормочет Джефф. — Вы его скоро отпустите?
— Да я, в общем, и не держу. Просто хотела поговорить. Иван, ты торопишься?
Очень хотелось сказать — да, тороплюсь! Но я не сказал. Если ей надо — рано или поздно всё равно придётся говорить. И потом, интересно же — что она мне скажет?
— Я теперь не увижу твоих сочинений, Иван? Совсем?
— Не увидите, — ответил я. И тут же спохватился, как-то по-хамски вышло. — То есть… Я не умею сочинения! Я как умею… пишу…
— Ты вот мне сейчас пытаешься врать — зачем? Не могу понять. То ли доказываешь что-то, то ли боишься… Почему надо скрывать свой ум?
— А нет никакого ума. Я тупой, — ответил я.
— Иван… ты действительно сейчас хочешь уйти? Совсем?!.
Я отвернулся и стал смотреть в окно. Непонятно, что делать, как мне себя с ней вести. И вообще — чего она, Марьяша, от меня хочет?!
— Я хочу быть наблюдателем, — сказал я. — Просто смотреть, и всё.
— Я понимаю. Быть наблюдателем… это необычно. Не все это могут — просто смотреть. Но у тебя есть голос. И… можно быть не просто наблюдателем, а свидетелем. Понимаешь? Вот ты видишь… ты же видишь что-то такое, чего никто не видит. Неужели тебе не хочется рассказать об этом?
— Не хочется.
— Ладно, я поняла. Тогда… тогда давай так. Просто договор. Антипедагогичный с моей стороны. Если ты пишешь сочинение другому человеку — то и оценку получает этот человек. Как раньше. Пойдёт так?
Вот это сейчас внезапно было.
— Я не знаю… Марья Михайловна, я не знаю, вряд ли. Все же теперь знают, что вы знаете… никто не захочет!
— Что же мне с тобой делать, Иван, ума не приложу!
— Да вы не переживайте, Марья Михайловна. Не надо со мной ничего делать, и всё. Может, я вырасту и… остепенюсь. Ведь может такое быть? Возьмусь за ум.
— Может. А может и не быть. Если… если не давать себе говорить, голос может совсем пропасть.
…Я шёл домой один, без Джеффа и Стоуна. И думал об этом. Свидетель… так звучит. Как полицейская хроника. Будто — сначала свидетель, а потом и обвиняемый.
Навстречу мне шла девушка с корзинкой. Так странно — не с пакетом, не с сумкой — а с корзинкой. Там, в корзинке, лежали груши. Так это… необычно. Груши. Очень захотелось вдруг. И… И ещё захотелось кому-то об этом рассказать. Прямо такое нетерпение в кончиках пальцев, я даже представил, как напишу об этом Варе. А она ответит: какие ещё груши…
Нет. Она так не ответит.
«Знаешь. Тут девушка несёт в корзинке груши. Не в пакете, не в сумке, а в корзинке. Так странно».
Отменить, конечно. Не отправлять. Зачем, кому это надо, груши эти! Тоже мне — свидетель груш.
«Знаешь, тут девушка несёт в корзинке груши», — написал я ещё раз.
И, поражаясь собственному идиотизму, нажал «отправить».
Отравленное сообщение. Тревожный сырок.
* * *
Вот так бывает. Когда тебя занесёт — чуть не в облака. И тут же — в открытый люк, как Стоуна тогда. Чтобы не расслаблялся.
Варя мне прислала картинку. Три груши. Просто — три груши, картина маслом. Или чем там. Я спросил: это ты рисовала? Она ответила — Сезанн.
Я погуглил. Точно. Есть такое. Значит… ей понравились мои груши, да?
Я весь день ходил, смотрел на неё и думал, что бы такое сказать про груши. Или лучше нет. Просто — достать из рюкзака, дать ей грушу. Да? Чего я не купил заранее, вот же балда. Теперь и не знаю, что сказать. И решил — завтра. А сегодня просто похожу. Подумаю про эти груши, как и что. Не обязательно же разговаривать каждый день.
Ходил такой загадочный… копил.
А потом школа закончилась, и я вышел на улицу. И получил.
Я ведь опять взялся за чужое эссе, на этот раз по географии. Вот идиот.
В общем, больше никогда. Ни за какие деньги я больше не напишу ничего для Федченко. Шёл бы он…
В другую сторону бы куда шёл. Или я; чего вот я пошёл за ними?