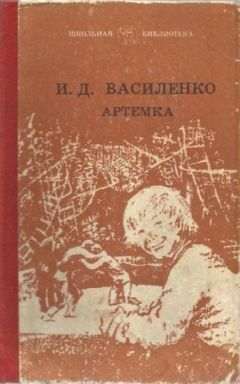— И вот заехал к вам, товарищи, чтобы спросить — может быть, хоть вы знаете, где прописал свой паспорт Деникин…
От дружного хохота заполнивших зал рабочих и красноармейцев звенят хрусталики на люстрах.
— …Запросили мы по телеграфу Ллойд-Джорджа, английского премьера, а он от злобы и дар речи потерял. Вот полезет сейчас за пазуху, вытащит оттуда гром и молний и кинет их в нас, бедных…
Когда Луначарский опять сел за стол, Герасим, председательствовавший на митинге, наклонился к его уху и тихо сказал:
— Хочу вас, Анатолий Васильевич, просить об одной девушке… То есть, как говорится, всей организацией челом бьем. Разрешите зайти с ней в вагон к вам.
— Ну что ж, заходите, товарищ Герасим. Я ведь здесь еще дня три пробуду. А вас я тоже хочу спросить: вы не знаете, как зовут вот того негра в красноармейской форме? Видите, в ложе сидит?
— Знаю и даже беседовал с ним, Чемберс Пепс его зовут.
— А, так это и есть Чемберс Пепс! То-то он опускает глаза каждый раз, как я на него посмотрю.
— А что, Анатолий Васильевич, провинился он в чем перед вами?
— Провинился. Захватите и его, когда пойдете ко мне.
…Вагон наркома стоял на запасном пути. Перегородки нескольких купе были разобраны — получился настоящий кабинет, с письменным столом, с телефоном, с пишущей машинкой. Луначарский только что кончил диктовать машинистке какой-то приказ, когда вошел Герасим, а с ним Ляся и Пепс.
— Садитесь, товарищи, — пригласил нарком. Все сели, но Пепс продолжал стоять навытяжку.
— Садитесь, товарищ Пепс, — повторил Луначарский.
Пепс сел, но тотчас опять поднялся и опустил руки по швам. Он не мог представить, как можно сидеть военному человеку в присутствии народного комиссара.
— Чего же эта девушка хочет? — спросил Луначарский.
— Она вам сама скажет, Анатолий Васильевич… — ответил Герасим. — Ляся, говорите, не бойтесь.
— Я… я хочу танцевать Машу… в «Щелкунчике»… — зардевшись от смущения, пролепетала девушка.
— Вот как! — улыбнулся нарком. — А способности такие у вас есть?
Опустив голову, Ляся молчала.
— Что вы скажете, товарищ Герасим? — спросил нарком.
— В «Петрушке» она толк понимает, Анатолий Васильевич. Сам видел. Учиться балету — желание страшное. А про остальное не скажу. Спросите, Анатолий Васильевич, товарища Пепса: он давно ее знает по цирку.
— Товарищ нарком, разрешите доложить: Ляся будет велики артист, — положил Пепс руку на сердце и тотчас же опустил ее опять.
— Буду рад, если ваше предсказание исполнится, — кивнул Луначарский. — Хорошие артисты нам нужны не меньше, чем хорошие учителя, инженеры, ученые. Владимир Ильич не устает мне напоминать: «Искусство — для народа». А знаете, товарищ Пепс, мы ведь с вами в какой-то степени старые знакомые. Не то в девятом, не то в десятом году я от души аплодировал вам, когда вы с таким блеском положили на обе лопатки зазнайку Карадьё, французского чемпиона. В Париже это было, в цирке. Помните такой случай?
— Так точно, товарищ народный комиссар, помню.
— Вот видите. Там гастролировала тогда великолепная русская гимнастка Елизавета Горностаева. Фамилия-то какая… царственная…
— Это была моя мама, — сказала Ляся.
— Вот как! — воскликнул нарком. — Ну, если вы восприняли от своей матери не только ее красоту, но и талант, быть вам великой артисткой… А теперь, голубчик, — повернулся он опять к Пепсу, — извольте объяснить, почему вы не выполнили мою просьбу, почему не приехали в Москву?
— Я хотель приехать, товарищ народни комиссар, — жалобно заговорил Пепс, — я уже совсемь приехаль, но мой Артиомку схватил гетманец. Я поехаль отнимать Артиомку — и пошель Красная Армия.
— Кто такой этот Артиомка? — заинтересовался нарком.
Пепс как мог объяснил, опасливо поглядывая на Лясю. Рассказал он и о том, как писали молодые партизаны Луначарскому письмо и просили «определить Артемку к театральным профессорам в обучение на артиста в мировом масштабе».
— Ну, и нашли вы своего Артемку? — спросил нарком.
У Пепса задрожали губы.
Герасим пугливо оглянулся на девушку и тихо сказал:
— Нет, Анатолий Васильевич, парень, наверно, погиб. Его утопили белые…
Он опять глянул на Лясю и поморщился, как от зубной боли: девушка уронила голову на руки и беззвучно плакала.
— Да, да… — сказал нарком, поправляя пенсне. — Да…
Когда все поднялись, чтоб уйти, Герасим спросил:
— Так как же нам это оформить, Анатолий Васильевич?
— А зачем оформлять? — ответил нарком. — И Пепс и Ляся поедут в нашем вагоне.
— У Ляси отец здесь, тоже артист.
— И отца возьмем с собой.
Оставшись один, Луначарский долго ходил по вагону и пощипывал ус.
Но Артемка не умер.
Неведомая сила распирала ему изнутри грудь и бросала его из стороны в сторону. Он не вынес боли, застонал и вцепился пальцами в какие-то веревки.
— Мычит, — сказал старый рыбак. — А ты, Ваня, говорил, что помер! Хватит качать.
«Я живой», — хотел отозваться Артемка, но из груди его вырвался только хрип.
— Что же с ним будем делать? — спросил Ваня.
— Вот в этом и вопрос, — поскреб старик бороду.
— По всему видать, он, батя, из-под конвоя бежал. Слышно было, как из винтовок палили.
— Если палили, то, ясное дело, бежал. Может, даже из-под самого расстрела. Как бы не бросились искать его тут…
— И очень просто, что бросятся. Спрятать надо.
— Где ж его спрячешь?
— А на чердаке боровок теплый — отогреется.
— Не влипнуть бы нам, — после небольшого молчания сказал старик. — От них пощады не жди: и нас заодно ликвидируют.
— Ну, так давай его обратно в воду кинем! — с раздражением крикнул парень.
— Скажешь тоже!.. — буркнул старик. — Клади его мне на спину, а сзади ноги придерживай. Да тихей разговаривай… Чистый порох — и сказать ничего нельзя.
Артемку вынули из невода, в котором его откачивали, и понесли по узенькой тропинке вверх, на высокий берег.
Почувствовав тепло человеческого тела, Артемка опять застонал: только так он мог выразить свою благодарность людям, вернувшим его к жизни.
А потом пошло что-то непостижимое: Артемка в ужасе бежит в степи по жнивью, а за ним гонится целая свора волков, и у самого большого волка человечья голова. Волки промчались мимо, будто они не за Артемкой гнались, а сами от кого-то убегали Артемка оглядывается, чтоб посмотреть, от кого же убегали волки, и вдруг видит: по степи бежит товарищ Попов, командир партизанского отряда. «Артемка! — кричит командир. — Куда ты запропастился? Бежим скорей на станцию! Пришел приказ выехать нам сейчас же в Москву: товарищу Ленину грозит страшная опасность!» И вот они оба бегут по степи… Но что это?!. Перед ними вся степь в огне. Кто-то поджег степь, чтобы они не могли добежать до станции. «Скорей, скорей!» — кричит командир и бросается прямо в огонь. «Скорей, скорей!» — кричит Артемка и взмахивает руками, будто, собирается плыть по огню. Потом все исчезает. Наступает густая-густая тьма. Артемка вынимает из кармана нож и режет тьму, как ваксу. Он режет до тех пор, пока во тьме не появляется под ножом окно. В окне светится голубая звезда. Артемка осторожно вылезает в окно и оказывается в степи. Звезда померцала и погасла. Медленно поднялось солнце. Вдруг слышен страшный вой. Ах, да ведь это волки! Вот они мчатся целой сворой, а впереди — самый огромный, с человечьей головой. Артемка в ужасе бросается бежать…
Однажды, после того как он долго ничего не видел, а только слышал далекое плавное пение, ему представилось море. Оно было тихое и все искрилось под солнцем. Артемка сидел на берегу, на камне, и дышал. Он ничего не делал, только дышал. И от этого ему было так хорошо, так приятно, будто он не дышал, а пил лимонад. От удовольствия Артемка даже глаза прикрыл. А когда опять открыл, то увидел над головой потолок. Артемка долго думал, что это за потолок такой в тюрьме потолок был серый, а этот чисто выбелен и под ним висит керосиновая лампа. Артемка скосил глаза вбок: на глиняном полу сидел парень и вязал рыбачью сеть.
— Ты кто? — спросил Артемка и не узнал своего голоса — такой он был сиплый и слабый.
Парень вздрогнул, вскинул кудлатую голову и уставился на Артемку зелеными глазами.
— А ты кто? — спросил он в свою очередь и засмеялся, обнажив белые неровные зубы.
Артемка задумался. Потом сразу все вспомнил и спросил:
— Это ты меня вчера из воды вытащил?
— Вона, вчера! — удивился парень. — Не вчера, а, считай, седьмой день пошел.
Артемка опять помолчал, обдумывая, как же это могло быть, и неуверенно сказал:
— Я что, хворый, что ли?..
— Знамо, хворый. Горячка тебя палила. Все окна нам тут перебил. Пришлось стекла вставлять.