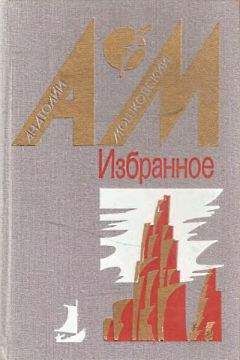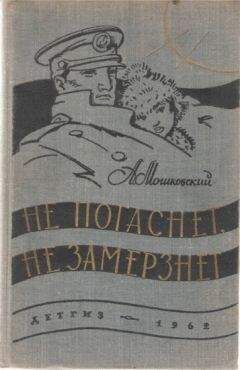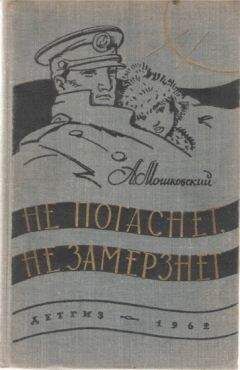Ардеев сердито выругался. Чуть успокоившись, сказал:
— Если б засветло приехали, не дичились бы так: видели б на том берегу упряжки с собратьями и вели себя спокойней… Ночь во всём виновата, будь она неладна!
Бригадир изо всех сил потянул за тынзей, но олень упёрся ногами в дно и не подвинулся ни на вершок. Тогда бригадиру стал помогать Талеев. Оленья шея вытянулась, но не придвинулась — олень героически продолжал держаться в воде. «Видно, без меня не вытащить эту репку», — подумал я, намотал на руку конец тынзея, упёрся сапогами в какую-то ямку и всей тяжестью тела повис на ремне.
— Легче, — подал голос Ардеев, — так мы вытащим одну голову.
Оставив меня с Талеевым держать тынзей, бригадир в нерпичьих тобоках зашёл выше колена в воду, обвязал верёвкой оленя за шею, и мы легонько вытащили упрямца на берег: стоит оленю перехватить горло, как он сразу сдаётся и смирнеет. Но зато два других ещё не пойманных оленя вдруг захрапели и поплыли по воде в ночь, к материковой земле.
— Не хватало заботы! — выругался Ардеев. — Искать придётся теперь…
Тем же способом мы вытащили на берег второго оленя. Пастухи смотали тынзей, и мы пошли к лодке. Сопровождать оленей поручили мне, и я вёл их за две верёвки. Они охотно сошли в воду и поплыли вслед за лодкой. Грёб Талеев, бригадир правил на корме, а я крепко держал верёвки, к которым были привязаны оба оленя. Собаки едва поспевали за ними. Высокие ветвистые рога неслись над водой, вода кипела и заворачивалась в маленькие воронки вокруг крепких оленьих спин.
На берег олени вышли раньше нас, и я, держась за натянутую верёвку, выбрался из шаткой лодчонки на топкий откос. Серый олень резко отряхнулся от воды, обдав меня холодными брызгами. Мне почему-то стало смешно, и я провёл рукой по его сильной и теплой, совсем по-человечески тёплой спине. Талеев понял мой жест по-своему.
— Ничего, — сказал он, — поднагуляли на острове мяса. Хватит зверям на несколько дней.
— Пожалуй, — отозвался бригадир. — Жаль, что те ушли!
— Значит, его убьют? — спросил я.
— Убьют…
— Пусть бы его оставили… Он такой рослый и здоровый.
— Верно, крупный. Да копытка одолела. Вишь, как хромает.
— А лечить-то пробовали?
— Как не пробовали! Толку нет. Одна морока с ними. Пригоним утром и забьём.
— Понятно, — сказал я.
Всё было более чем понятно. Убивать оленей в тундре невыгодно: другим быкам придётся везти их мясо. Гораздо проще и расчётливей, чтоб они сами, на собственных ногах, доставили своё мясо в посёлок на звероферму.
Мы быстро вытащили на берег лодку, опрокинули, вылив набравшуюся воду, развязали упряжку и помчались по ночной тундре.
За моей спиной бежали на верёвках два оленя. Только сейчас, после поездки на остров, я опять услышал далёкие гортанные, с металлическим оттенком крики лебедей, крики прощания с тундрой. В горячке ловли оленей я не слышал, я забыл про них, а сейчас вот, когда нарты, переваливаясь с кочки на кочку, понеслись в ночь, я услышал их крики. Мы отъезжали от озера, и они становились всё глуше и печальнее, словно звучало в них сожаление о том, что могло сбыться и не сбылось. Скоро их крики потерялись и умерли в скрежете полозьев, в стуке копыт.
Земля отвердела от заморозков, и копыта гулко, как о камень, гремели по ней. С левой стороны нарт сидел Ардеев, помахивал хореем и лениво покрикивал на ездовых быков. Я сидел справа, свесив набок ноги, и то и дело чувствовал, как пойманные олени осторожно трогают мою спину рогами.
Храпя и выбрасывая от натуги языки, ездовые тянули нарты на крутые склоны сопок, по брюхо вязли в болотцах, лезли сквозь жёсткий кустарник, а эти два оленя, чуть прихрамывая, легко бежали сзади. Они и не знали, что эта холодная и тихая ночь была их последней ночью.
Я подобрал полу малицы, волочившуюся по земле, поднял вверх голову и замер. Всё небо от горизонта до горизонта было забито крупными звёздами. Млечный Путь широкой полосой опоясывал небо, и до него можно было достать хореем. Полярная звезда так низко нагнулась надо мной, что я боялся, как бы ездовые быки ненароком не сшибли её своими рогами.
Вселенная, огромная и спокойная, во все глаза смотрела на нас — на две упряжки и трёх человек. Я ехал и думал о том, как прост и прекрасен мир, в котором мы живём, как надо любить и ценить его и как ничтожен тот, кто не понимает этого.
Упряжки мчались по тундре, то исчезая в оврагах, то выскакивая на сопки. Гулко стучали копыта, разбивая лёд на лужах. Синий огонь звёзд охватил небо и колыхался огромным густым заревом, а внизу лежала бескрайняя тундра с замёрзшими ручьями и речушками, откуда доносились гортанные крики лебедей.
Это было незабываемо. И хуже всего было то, что временами меня за спину осторожно трогали рогами бегущие сзади олени, как будто я мог что-то сделать и помочь им, и я всякий раз вздрагивал и отодвигался от них.
1959
Кешка
Кешка лежал на животе, уперев локти в песок, курил и задумчиво смотрел на спокойную синеву Байкала.
На море был полный штиль — ни всплеска, ни морщинки, и вода казалась тугой, неподвижной, словно она, как и Кешка, глубоко задумалась о чём-то. Рядом сидели двое мальчишек и ожесточённо спорили, пустят ли атомный ледокол на Байкал. Юра, сын учительницы местной школы, тонкий, вертлявый мальчонка, утверждал, что с Байкала хватит и одного старого ледокола «Ангара», который сейчас ремонтируется на судоверфи в посёлке Лиственничном, что Байкал — это не Ледовитый океан, где нужно круглый год проводить через льды караваны судов.
Юра позапрошлым летом приехал с матерью из Батуми, и это небольшое сибирское море после огромного Чёрного моря никак не казалось ему достойным того, чтоб сюда пускать сверхмощный атомный ледокол.
Зато Тимоша, сын рабочего с