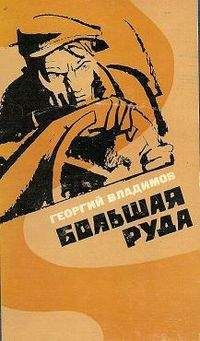Наконец Карел Клоц не выдержал и крикнул ему:
– А ты куда поедешь, Руда? Руда лениво повернулся к нам:
– А вы угадайте!
Потом не спеша обошел меня, стал на самом видном месте и, похлопывая себя по ноге, спросил:
– Знаете, где находится Жилица? Вот это я понимаю – расстояньице!
Не успел он договорить, как его перебила Света Влкова:
– А Франта Турек поедет ещё дальше – до самого Прешова.
Тут наш Руда как-то странно заморгал и, по-моему, даже слегка покраснел. Но сбить его было не так-то просто. Он немного покачался на носках и подошел поближе к карте.
– А кто тебе сказал, что я поеду до Жилины? Там я был в прошлом году. А в этом… – И он ткнул пальцем в то место, которое мы даже не проходили на уроках географии.
– Гуменное, – прочитала через Рудино плечо Квета.
И весь «парламент» единогласно признал, что Руда занял первое место.
– Там живет один из братьев моего отца, – начал рассказывать Руда, стараясь изо всех сил, чтобы его рассказ звучал правдоподобно. – У него там свой дом, такой старый дом в глухом лесу. В прошлом году, как раз во время каникул, медведь разворотил в этом доме оконную раму. Мой дядя выстрелил в него, но задел только заднюю лапу. Медведь забрался подальше в глушь и там отлежался. С тех пор он страшно ненавидит нас. – Руда вытянул руку, прищурил один глаз, точно целился в кого-то из ружья, и добавил: – Каникулы будут что надо! Я уж это знаю заранее!
В «парламенте» наступила мертвая тишина. Было слышно, как этажом ниже школьная нянечка подкладывает в печку дрова. Все стояли разинув рот и глядели на Руду. Кто-то из девочек тихонько вздохнул. Наконец Свата Коуделек пропищал своим тоненьким голоском:
– Вот это да! А ты не врешь, Руда? Руда сразу сделал обиженное лицо и повернулся ко мне.
Наверное, он забыл, что решил не разговаривать со мной до 12.00.
– Ну-ка, Тонда, скажи, есть у меня дядя в Словакии или нет?
А у него и вправду где-то в Словакии был какой-то дядя. Поэтому я сказал Свате:
– Нет, Руда не врет.
Тут прозвучал звонок и мы бросились к своим партам.
Больше ничего интересного до конца уроков не произошло.
Выйдя из школы, я расстался с ребятами и со всех ног пустился домой. Сегодня на обед у нас были кнедлики.
Когда я уже поворачивал на нашу улицу, навстречу мне попался почтальон. Он остановил меня, вынул из своей сумки письмо, вслух прочитал адрес и спросил:
– Пионер Антонин Гоудек, не так ли?
Это было так неожиданно, точно гром с ясного неба. Я растерялся:
– Моего отца тоже зовут Антонин Гоудек. Правда, он не пионер.
Но почтальон даже не улыбнулся. Он подал мне письмо. Вот так и началась самая грустная пора в моей жизни.
Я лежал в комнате на тахте. Животом на подушке с вышитыми оленями. И эта подушка страшно колола мне живот. Ну и ладно, пусть колет.
А рядом на кухне мама готовила кнедлики. Запах доносился даже в комнату. Ну и ладно, пусть доносится.
Вскоре послышался стук тарелок и ложек. Мама позвала меня:
– Тоник, иди мой руки. Пора обедать!
Ну и пусть пора! Все равно не буду есть.
Я ещё крепче налег на подушку – пусть колет посильнее – и продолжал думать о своей несчастной судьбе. А тут ещё это дурацкое солнце! Светит в окно как ни в чем не бывало! Отвлекает от грустных мыслей!
Мама открыла двери, вытерла руки полотенцем, сняла фартук.
– Все готово. Иди, Тоник, умойся и перестань дурить! Скоро придет отец.
Я крикнул про себя: «Ну и пусть придет!» – а вслух пробормотал:
– Мама, не хочу я сегодня есть!
Мама подсела ко мне на тахту и внимательно посмотрела на меня:
– Эх, дружок! Хорошо бы эта беда была самой большой в твоей жизни.
Неужели бывают беды ещё больше? Но что могло бы быть для меня ещё большей бедой? Ведь я получил письмо, в котором ясно сказано: на Лазецкую мельницу этим летом ехать нельзя – Ирка Корбик заболел скарлатиной.
Лишь только я начинал думать об этом, так чуть не ревел от злости. И даже немного жалел, что я не третьеклассник какой-нибудь, которому иногда разрешается пореветь. А вот у нас уже не поплачешь: как-никак, шестой класс!
В кухне на плите что-то зашипело. Мама скорее побежала туда. А я решил уснуть. Может, хоть во сне меня перестанут мучить грустные мысли. Я крепко зажмурил глаза и принялся считать: раз, два, три… Дойдя до семи, я сбился – вспомнил, что прошлым летом у Иркиной собаки Алины родилось семь щенят. Счёт пришлось начинать сначала. И так повторялось четыре раза.
Девятнадцать… Тут у меня перед глазами возникла лесная поляна за мельницей, где прошлым летом я нашел девятнадцать белых грибов.
Двадцать три… Мне вспомнилось, как однажды около мельницы остановился служащий из Народного Совета и спросил пана Корбика:
«Скажите, папаша, какой номер дома у вашей мельницы?»
«Двадцать три», – ответил пан Корбик.
Девяносто семь… Раздался звонок в передней. Это пришел с работы отец. В коридоре застучали его тяжелые ботинки. Потом его голос донесся из ванной. Он просил маму дать ему полотенце, справлялся, что сегодня на обед, йотом прошел на кухню.
– А где же наш третий?
Мама, наверное, показала на дверь моей комнаты.
– А что он там, собственно, делает?
Мама, должно быть, только пожала плечами, потому что я ничего не услышал.
– Очевидно, этот Тонда лишил тебя дара речи, – сказал отец уже около моей двери.
Ручка слегка дернулась. Тогда мама что-то тихо сказала:
– Ирка Корбик?! – удивленно воскликнул отец. – Вот не повезло парню!
Я ждал, что отец теперь и мне посочувствует. Но он продолжал расспрашивать об Ирке.
Ручка двери вернулась в прежнее положение, на кухне скрипнул стул, застучали ложки. Вскоре я услышал, как отец попросил ещё кнедликов, потом осведомился у мамы, нашлась ли наконец квитанция из химчистки. Обо мне ни слова! Этого я не мог больше выдержать. Схватил письмо и с криком ворвался на кухню:
– Мне некуда ехать на каникулы!
Отец спокойно отложил ложку:
– Ты меня, Тонда, чуть не испугал.
Я подошел к нему ближе и ещё громче крикнул:
– И никому до этого нет дела!
– Ну, хватит, Тонда, – сказал отец и показал мне на стул.
Скрепя сердце я уселся.
– Только есть я все равно не буду.
Отец посмотрел на плиту:
– Остались там ещё кнедлики? Сколько тебе положить?
Настроение у меня все ещё было неважное, но я ответил, что съел бы, пожалуй, штук девять. И начал есть. Отец тем временем прочитал письмо от Корбиков, отложил его в сторону, покачал головой и вернулся к своим блинчикам.
– Вот видишь, как мне не повезло, – пожаловался я.
– Ешь и молчи! – строго приказала мама.
Я завидовал своим родителям – не знают они никаких забот и совершенно спокойно уничтожают свои блинчики. Но как они могут оставаться спокойными, когда у меня такое несчастье!
Ещё раза три заводил я разговор о каникулах, но мама всякий раз меня останавливала:
– Да ешь ты спокойно! Всё будет хорошо!
После обеда отец надел ботинки и куда-то отправился. Вернулся он скоро. Сел у печки на табуретку и, расшнуровывая ботинки, спокойно сказал:
– Поедешь, Тонда, на каникулы в Петипасы.
А мама вытирала тарелки и даже не обернулась.
Только спросила:
– С кем ты говорил, с Людвиком?
– Подай-ка, мать, ножницы. Опять у меня шнурок не развязывается, – вздохнул отец. И только потом уже ответил: – С Людвиком! Ярка Людвик как раз уезжает на практику. Тонда сможет пожить в его комнате.
Я не верил своим ушам. В тот же миг я бросился к отцу:
– Папа, о ком ты говоришь? Обо мне?
– А кто ещё у нас в доме Тонда? – буркнул отец, не поднимая головы от шнурка, который никак не хотел развязываться.
– Значит, я поеду на каникулы! – закричал я во все горло. И тут же недоверчиво спросил: – Но, папа, когда же ты успел договориться?
– По телефону. И, пожалуйста, оставь меня в покое – я никак не развяжу шнурок.
Только теперь я почувствовал настоящую радость.
– А у них там есть река?
– Да, Бероунка, – сказал отец.
– А мельница?
– Турбинная.
– И лес?
Отец поднял глаза:
– Не болтай, Тонда, лучше помоги мне.
Но пальцы у меня дрожали. Пришлось позвать на помощь маму.
– А ребят там много?
Наконец шнурок был развязан. Отец снял ботинок и проворчал:
– Знаешь, Тонда, я возьму тебя завтра с собой на работу, и старый Людвик сам тебе все расскажет.
– Тот Людвик, что стоит в караульной?
– Тот, тот! – И больше отец не сказал ни слова.
Он вообще не любит много говорить. И смеется редко. Но, когда со мной приключается что-нибудь неприятное, он всегда меня выручает.
Я ушел в комнату и лег на тахту. Под голову я положил самую мягкую подушку, с вышитыми павлинами. И начал думать о Петипасах. Может, там будет совсем и не хуже, чем на Лазецкой мельнице.
Время от времени я поглядывал в зеркало, которое стояло на мамином туалетном столике, и показывал себе язык. Мне хотелось подразнить себя за то, что я столько времени куролесил понапрасну.