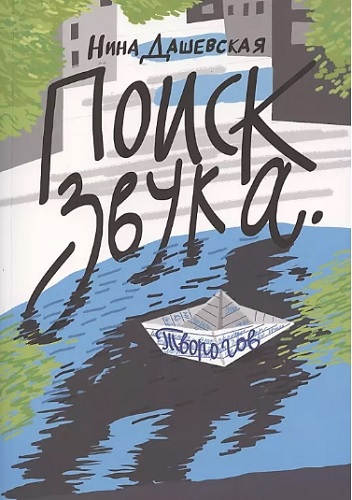я тебе сахар поищу, сейчас, сейчас — шоколадку! Бледный какой, что же ты! С собой надо носить!
— А у меня вот с собой… есть, я забыл просто.
Достаю из кармана сахар, в пакетике. У меня и правда есть. Высыпаю в рот.
Заботливая продавщица книжного делает мне чай.
Беру чашку с битым краем. Чужая… терпеть не могу из чужого пить, но сейчас ладно. Как бы её взять?
— Мальчик, ты Аполлинера-то положи. Рано тебе ещё…
Точно; у меня палец в книге, вот и чашку взять неудобно. Заглянул — и поплыл опять. Захлопнул сразу.
— Ничего ему не рано. Нормально ему, — появился ещё один продавец, длинный парень с волосами, собранными в хвост. И ещё у него серьга в ухе, даже две.
— Тебя хотя бы зовут как? — спрашивает она.
Чего это «хотя бы».
— Иван.
— Иван… Хорошее имя.
(Чем вот оно хорошее? Все так говорят!)
— Но продать Аполлинера я тебе всё равно не могу! Со взрослыми приходи!
— А то он в интернете не найдёт… Хочешь, на себя куплю? — вдруг предлагает мне длинный продавец.
Я мотаю головой:
— У меня денег нет всё равно.
Он смотрит на меня. Довольно внимательно. А потом спрашивает:
— Слушай, Иван. А у тебя точно диабет?
Я смотрю ему прямо в глаза. Не отвожу взгляд.
…В общем, я ушёл от них с чаем и шоколадкой в животе. И с Аполлинером в рюкзаке. Открыл другие стихи ещё — нет, остальное мне совсем мимо. А то не открывал больше. Для начала надо до дома дойти. Даже не думал, что я такой чувствительный. Прямо на физиологическом уровне, как оказалось.
* * *
Вот — слова. В каждом слове свой смысл, а если они стоят в нужном порядке — между словами возникает что-то ещё. Что-то важное, самое главное. Все ищут — нужное слово, нужный звук, нужный цвет. Единственно верную форму. Что-то такое, когда слова, звук, цвет перестают быть просто собой, а становятся чем-то большим.
Брандмауэр — больше, чем кирпичи, бетон и штукатурка. Город — больше, чем дома, из которых он состоит. Стихи — больше, чем слова.
Звуковые волны соединяются между собой, становятся музыкой, и в них появляется смысл. Которого не может быть в простом колебании струны.
Бывает же. Бывает же — человек находит тот самый порядок слов, который нужен. Который не теряется даже в переводе.
И тут не думаешь — слишком это или нет. Вообще не думаешь, проваливаешься, и пол плывёт, и жутко.
Если бы это стихотворение прочёл Джефф, он бы…
Я боюсь этого эксперимента. Мне сейчас кажется — если бы все его прочли. Войн было бы меньше. Я идиот, да? Идеалист? Почему «идеалист» и «идиот» — такие похожие слова?
А вдруг не сработает, вдруг Джефф скажет: ну и что?…
Поэт, музыкант, актёр — находит то единственное: порядок слов, сочетание звуков, движение, выражение лица. Те из них, кто что-то делает, а не лежит на диване, как я. А такой, как я… Лежатель, созерцатель, пусть — потребитель, потребитель слов и звуков, бурых кирпичей, точек с запятой…
Такой, как я — тоже ищет своё слово, свою картинку, свой звук. Прочесть, увидеть, найти. Если не искать, то… то бессмысленно. Бессмысленно это вообще — быть.
Может, это моё дело? Искать… смотреть, слушать? Разве мало! Ведь тем, кто нашёл звук, нужен кто-то, чтобы его передать. Читатель, слушатель… вот это я мог бы. Это, пожалуй, мог бы быть я.
Этого мало?…
Я выхожу к реке. Наконец-то река. Она течёт. И всё. И я смотрю на неё. Долго.
* * *
Папа стоит с этой своей картонкой у своего театра, как дурак. Как те, кто просит на вокзалах: «Украли все деньги, помогите вернуться домой».
И только если подойти ближе, прочтёшь:
«Режиссёр нашего театра Михаил Копейкин осуждён незаконно».
И дальше ещё. Дальше никто не успевает прочесть, все мимо бегут. Так он и стоит. Это у него называется «пикет». Ну-ну.
Я боюсь, что придёт полиция, ему заломят руки и поволокут куда-то. Или что будут смеяться, показывать на него пальцем. Но выходит ещё хуже.
Никто не обращает внимания, люди отводят глаза и проходят мимо. Никому не интересно. Совсем.
Я отошёл подальше, чтобы не попадаться ему на глаза. Надо уйти, но никак не уходится, — ошиваюсь за деревьями и смотрю.
Два часа уже стоит. Безумие какое-то. Безнадёжное безумие. Ничего не произошло. И отец снял табличку и пошёл в театр. Играть стул. Или слона. Ещё бы хобот свой надел и уши и вышел бы так.
* * *
Я оторвался от дерева и пошёл к метро. Домой не хотелось, и я зашёл в кафе. Даже не кафе, а так — хачапури, пирожки с картошкой; зато кофе в пластиковом стаканчике дешевле, чем в автомате. На картонный стаканчик у меня нет денег (и никогда не будет).
Я не хочу зависеть от денег, да и от кофе тоже. Поэтому взял самый невкусный, обычный эспрессо, без молока, без сахара. Сижу и давлюсь им, как дурак.
Тут же ввалилась компания, два мужика и крупная женщина с короткой стрижкой. Голос у неё низкий, почти мужской: заказала три пива, на всех. И они сели за мой стол, не спрашивая, — я тихо отполз на подоконник. (С одной стороны, больше места не было. С другой — можно же хотя бы спросить? Из вежливости? Я, значит, совсем мебель, меня можно не замечать, как и моего отца с его дурацким плакатом?…)
Я решил вырабатывать стенку. Не слышать, не обращать внимания, о чём они говорят, — если я не могу изменить окружающий мир, значит, должен изменить своё отношение к нему. Не хочу вообще никаких