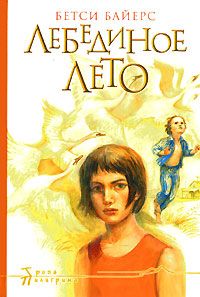— Какая сестра?
— Фрэнсис, кто же еще.
— Никакая она не красавица. Я ее видела, ничего особенного.
— В молодости она была красавицей. И такой, что ты и представить не можешь — но притом настолько несносной девчонкой, что…
— Внешность важна, и еще как важна, даже слишком. Родители всегда говорят, что внешний вид ничего не значит. Я всю жизнь слушала эту чушь. «Внешность не имеет значения. Внешность не играет роли». Ха! Если хотите узнать, какую роль она играет, просто перестаньте стричься или накрасьте глаза пострашнее, а потом идите и слушайте, как вопит разбегающийся народ. — Сара резко оборвала свою речь и закончила: — Что-то мне тоже захотелось пойти к озеру и посмотреть лебедей.
— Однако наш разговор еще не закончен, юная леди.
Сара обернулась и долго смотрела на тетушку, засунув руки в задние карманы джинсов.
— Ладно, — вздохнула наконец та, поднимая со стула полотенце и встряхивая его. — Когда у тебя такое выражение лица, я понимаю, что с тем же успехом могла бы читать проповеди этой тряпке. Иди к своим лебедям. — Она развернулась. — Чарли, малыш, хочешь пойти с Сарой посмотреть на лебедей?
— Он устанет по дороге, — воспротивилась девочка.
— Тогда идите помедленней.
— Я ничем не могу заняться для своего удовольствия, везде должна таскать его с собой! Я с ним и так каждый день вожусь, а Ванда — каждый вечер. Во всем доме у меня только и есть своего, что единственный ящик комода! Один-единственный ящик.
— Вставай, Чарли. Сара берет тебя к озеру, смотреть на лебедей.
Сара посмотрела брату в глаза — и сказала, помогая ему подняться:
— Ну хорошо, пошли.
— Погоди, я вам дам хлеба, что остался от ужина. — Тетя Вилли сбегала на кухню и принесла четыре булочки. — Возьмите с собой. Вот, держи. Пускай Чарли покормит лебедей.
— Пошли уже, Чарли, или мы дотемна не обернемся.
— Только не торопи его, идите медленно, слышишь, Сара?
— Угу.
Держа сестру за руку, Чарли неспешно двинулся в путь. Он помедлил у калитки — но наконец вышел на улицу вместе с Сарой. Спускаясь по склону холма, он длинно шаркал ногами об асфальт.
Когда они отошли за пределы слышимости, Сара сказала:
— Тетя Вилли думает, что знает все на свете. Я ужасно устала слушать, как я похожа на Ванду, притом что Ванда красивая, а я нет. Думаю, она настоящая красавица. Если бы я себе выбирала внешность, я бы хотела быть как она. — Девочка яростно пнула кустик на обочине дороги. — И вот что я тебе кроме шуток скажу: внешность значит очень много.
Некоторое время она сердито шла в молчании, потом дождалась отстающего Чарли и снова взяла его за руку.
— Я вот думаю, что внешность важнее всего на свете. Если ты выглядишь красавчиком — ты и есть красавчик; если выглядишь умником — ты и есть умник, а если ты ни на кого не похож, то ты и есть никто. Однажды я написала об этом сочинение в школе — о том, что внешность важнее всего на свете, и мне поставили «Д». Представляешь, «Д», самую низкую отметку. А после урока учительница пригласила меня поговорить и начала пороть ту же самую чушь, мол, внешность не играет роли, и иногда самые страшные уроды оказывались самыми умными и добрыми, и замечательными…
Они как раз проходили мимо дома Теннентов, когда там включили телевизор, и голос Эдди Олберта успел оглушительно пропеть: «Зелееееные просторы, ах…»[2], прежде чем убавили звук. Чарли на миг замедлил шаг, узнавая начало одной из любимых своих программ, и выжидающе взглянул на Сару.
— Пошли, — отрезала сестра. — Так вот слушай: у меня в классе была одна девчонка по имени Тельма-Луиза, она накропала опус под названием «Дарить счастье людям». И ей поставили «А»! «А», высшую отметку! Меня от этого просто тошнило. Тельма-Луиза — белокурая красотка с ресницами, которые от природы загибаются кверху, ну что она может знать о жизни? Знаешь, однажды Хейзел заходила к ней домой и потом рассказывала, что в комнате Тельмы-Луизы перед зеркалом ковер протерся, потому что она там часами простаивает, любуясь на себя, красавицу.
Сара вздохнула и продолжила путь. Большинство домов на улице стояли стена к стене, будто плотно прижавшись друг к другу безопасности ради. За домами с обеих сторон вздымались холмы Западной Вирджинии, совсем черные в ранних сумерках. Холмы были такими же, как и сотни лет назад, поросшими диким лесом — и только к северу их узкой полосой прорезал карьер, глубокий шрам в земле, топорщившийся неестественно бледными обрывами вымытой почвы.
Сара замедлила шаг: они поравнялись с домом Мэри Уэйсек.
— Погоди минутку, — сказала девочка. — Мне нужно поговорить с Мэри.
С улицы было слышно, как играет подружкин магнитофон, и Саре ужасно захотелось оказаться в комнате Мэри, завалиться на кровать, на розовое в крапинку покрывало, и слушать кассеты из ее безразмерной коллекции.
— Мэри! — позвала она. — Пойдешь с нами с Чарли на озеро смотреть лебедей?
Мэри подошла к окну.
— Минутку, я сейчас к тебе спущусь.
Сара подождала на обочине, пока подруга выйдет во двор.
— Я бы пошла, да не могу: приехала кузина и будет делать мне новую стрижку, — сообщила та. — А ты как? Купила вчера то платье?
— Не-а.
— Почему? Твоя тетя вроде разрешила…
— Разрешила, но потом мы пошли в магазин вместе, она увидела, сколько оно стоит, и сказала, что глупо столько платить за платье, когда она может сшить мне точно такое же.
— Вот невезуха.
— Именно. Потому что, к сожалению, точно такое же она сшить не может, разве что нечто подобное. Помнишь, какие там спереди по подолу пересекающиеся каемки? Так вот, она сделала все так, что каемки вообще не пересекаются.
— Ох, Сара…
— Я еще при кройке поняла, что кайма пойдет неправильно, и все время говорила: «Не так, тетя Вилли, у тебя же каемки не пересекутся», и я это твердила не переставая, чуть не плача, а ножницы все вжикали, и тетя бормотала: «Отлично пересекутся, все до единой каемочки», а потом она радостно прострочила швы — и ни одна каемка с другой не пересеклась.
— Вот ужас-то. Я же помню, когда ты показывала мне то платье, ты как раз говорила, что самое красивое в нем — это пересекающиеся каемки.
— Так и было. А в тетушкином платье я выгляжу так, будто у меня одна половина туловища на два дюйма[3] короче другой.
— Слушай, пошли ко мне? Посмотришь, как кузина будет меня стричь.
— Не получится. Я обещала тете Вилли, что покажу Чарли лебедей.
— Да ладно, зайди на минутку, посмотришь самое начало. У моей кузины с собой целая куча парикмахерских книжек.
— Ну хорошо, только на минутку. Чарли, а ты сиди и жди меня здесь, — девочка указала брату на крыльцо. — Сиди здесь и не сходи с места, слышишь? Не слезай со ступеньки. И даже не вставай.
И она пошла в дом следом за Мэри, все повторяя:
— На самом деле я правда на минутку, мне надо показать Чарли лебедей, и домой хочу вернуться не поздно, чтобы успеть покрасить кеды…
— Какие кеды?
— Ну помнишь, те ужасные, оранжевые. Я в них похожа на кого-то вроде Дональд-Дака.
Чарли, сгорбившись, сидел на верхней ступеньке. Неожиданно стало очень тихо — как будто весь мир выключился, стоило Саре войти в дом Уэйсеков. Долгое время мальчик не двигался. Единственным звуком оставалось тиканье его часов.
Чарли очень любил свои часики. Он не знал, как определять часы и минуты, но любил слушать тиканье и смотреть на маленькую красную стрелку, бежавшую по циферблату, отсчитывая секунды. Каждое утро после завтрака он не забывал попросить тетю Вилли завести ему часы. Сейчас мальчик положил руку себе на колени и смотрел на движение стрелки.
Ему было одиноко. Он всегда так себя чувствовал, очутившись в незнакомом месте. За спиной у него раскрылась дверь — и Чарли резко обернулся в надежде, что идет Сара. Увидев вместо сестры миссис Уэйсек в компании еще одной дамы, он отвернулся и снова уставился на часы. Мальчик так сгорбился, что рубашка выбилась у него из штанов, оголяя полоску незагорелой кожи.
— А это что за малыш, Элли?
— Чарли, братишка Сары, — ответила миссис Уэйсек. — Помнишь, я тебе рассказывала. Тот самый мальчик, который не умеет говорить. Не сказал ни слова с трехлетнего возраста.
— Он немой?
— Может, и нет, только никто от него еще слова не слышал, даже когда он болел. Он все понимает и ходит в школу, говорят, он и буквы писать может — но совсем не говорит.
Чарли их не слушал. Он прижался ухом к часам и слушал их негромкий стук. В ритмичном тиканье было нечто, неизменно успокаивающее его. Часы, как волшебный талисман, ограждали его от шумного мира тихими звуками и чуть заметным движением.