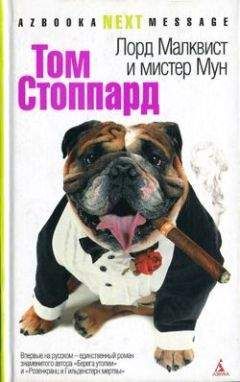Зажмуривается. Открывает глаза. Все тот же родной двор и желтая курица приплясывает перед дверью.
– Надо завязывать… – задумчиво говорит Эдик, обращаясь к самому себе.
В костюме я не влезаю в лифт, поэтому бегу на наш этаж по лестнице. В костюме это очень тяжело. Еще не добежав до квартиры, я слышу настойчивые звонки в дверь, сердитые возгласы:
– Ну откройте, нууу!
Перед дверью в нашу квартиру стоит Рита.
– Здравствуйте, – говорю я.
Рита пугается курицы и продолжает жать на звонок.
Еще больше пугается Эдик, который приехал на лифте и обнаружил, что курица, мало того что не является его галлюцинацией, так еще и стоит перед дверью его квартиры и, видимо, собирается в нее войти. Эдик на всякий случай нажимает на кнопку «один» и едет обратно на первый этаж.
– Это я, – говорю я.
Рита смотрит на меня и жмет, и жмет на звонок.
– Это я, Кеша, – говорю я. – Перестаньте.
– Что перестаньте?
– Звонить.
Наконец я догадываюсь снять куриную голову. Рита перестает звонить в дверь.
– Я хочу поговорить с твоей мамой, – говорит она.
– Понятно, – говорю я.
– Она не открывает, – говорит Рита.
– Ну да, – говорю я.
– Но она же дома!
Я киваю.
Рита хватает меня за руку.
– Пожалуйста! Я в отчаянье! – говорит она.
У нее раскрасневшееся заплаканное лицо. Мне становится жаль Риту.
– Подождите здесь, – прошу я.
Рита шмыгает носом.
Я поспешно закрываю за собой дверь. В коридоре на полу сидит мама и плачет.
– Что ей нужно? – слабым голосом спрашивает она.
– Поговорить хочет, – честно отвечаю я.
– Я не могу, – плачет мама.
Я киваю.
– Мам, иди в комнату, – говорю я.
– Не хочу, чтобы она здесь была, – всхлипывает мама.
Я помогаю маме подняться. Это получается с трудом, так как костюм курицы мне очень мешает. Отвожу маму, она ложится на кровать и прячет лицо в подушку. Снимаю костюм, иду на кухню, приношу маме воды и беру со стола феназепам.
– Мам, выпей, – говорю я.
Она не реагирует. Оставляю таблетки с водой на тумбочке и иду обратно на лестницу. Рита сидит на подоконнике и курит.
– Что вы хотели? – спрашиваю я.
– Почему Лиза не хочет со мной говорить? – не понимает Рита. – Она меня ненавидит? Что я ей сделала?
Мне в который раз становится стыдно за маму. А еще обидно, что я снова решаю ее проблемы. И с работы меня, скорее всего, теперь уволят. Смотрю на Риту. Озвучив мысль о том, что мама, по ее мнению, ее ненавидит, она снова начала всхлипывать. Так мы и стоим: одна женщина плачет снаружи, другая – внутри, а посередине я с костюмом курицы в руках. Глубоко вздыхаю и беру себя в руки.
– Мама болеет. Она вас не-не-ненавидит, – медленно проговариваю я.
– Но мне надо с ней поговорить!
Я вздыхаю.
– Ну так поговорите со мной. Пойдемте, мне нужно вернуть костюм, – говорю я.
Рита сейчас кажется совсем не взрослой. Как будто мы ровесники или она даже младше меня. Младше Жени.
– Не плачь, – прибавляю я.
Рита кивает, и мы спускаемся по лестнице в молчании.
Посреди двора стоит Эдик.
– Ты ее видел? – с волнением спрашивает он.
– Кого?
– Курицу…
– Нет.
Эдик с удивлением смотрит на нас, не замечая, что у меня в руках костюм курицы. У меня нет времени – у меня Рита, которая снова собирается плакать, и надо отнести костюм.
По дороге Рита рассказывает мне то, что я, собственно, и так прекрасно знаю, – что жить она так больше не может. Что Леня занимает собой все внешнее и внутреннее пространство, что в голове у него какие-то великие идеи, работать он не может и не хочет и объясняет это тем, что он поэт уровня Пастернака и никак не меньше.
Я иду молча и вспоминаю, как однажды, пару лет назад, папа явился к нам домой со светящимися глазами, крепко обнял маму, и они ушли в нашу комнату, а я остался стоять в коридоре. Я тогда был еще молод и глуп и решил, что все – вот оно счастье, теперь заживем.
Не прошло и получаса, как мама пулей вылетела из комнаты вся в слезах и выгнала папу. Оказывается, он пришел затем, чтобы показать ей новое стихотворение, потому что «только она, как самый близкий и дорогой его сердцу человек, способна понять величие этого стихотворения».
– Рита, – говорю я, когда мы останавливаемся у офиса ресторана «Цыпа-цыпа», – иди домой. Все будет хорошо.
Рита крепко обнимает меня на прощанье, потому что она глупая и не понимает, что, конечно же, хорошо уже ничего не будет. Потом я захожу в офис, и меня увольняют.
* * *
Поскольку Эдик отдал нам деньги за комнату, я теперь могу поехать на экскурсию в Пушкинские Горы, чем несказанно радую Любовь Михайловну и огорчаю Володю.
– Украл, что ли? – шепчет он мне в спину.
Я не реагирую. А зачем? У меня есть Женя, и сегодня после школы я пойду с ней гулять. Но все выходит опять совсем не так, как было мною задумано. Придя домой, я обнаруживаю на кухне сразу троих – маму, Ларису Дмитриевну и… Женю. Они пьют чай и ведут светскую беседу. Женя прижимает к груди сборники маминых стихов. Я в ужасе.
А все потому, что свежекупленный свой мобильный телефон, это чудо современной техники, я неосторожно оставил дома, отправившись утром в школу. А Жене захотелось со мной поговорить. Женя позвонила. Мама в это время лежала на кровати и изучала трещинки на потолке.
– Алло, – сказала мама.
– Кеша? – спросила Женя.
– Нет, это Лиза, – сказала мама.
– Понятно, – ответила Женя.
Они немного помолчали.
– А где Кеша? – осторожно спросила Женя.
– Точно не знаю, но скорее всего в школе, – задумчиво ответила мама.
– А вы, наверное, его мама? – догадалась Женя.
Мама кивнула, но по телефону это было не видно. Сообразив, что Женя не видит ее киваний, мама сказала «да». А потом она взяла и решила представиться: «Лизавета Мироновна Белых, член Российского Союза писателей».
И тут понеслось. Женя сначала никак не могла поверить, что та самая Лиза Белых и есть мама Кеши, потом она никак не могла подобрать слов, чтобы выразить, что именно дали ей в жизни эти прекрасные стихи, потом Женя уже перешла к тому, какой у нас в целом замечательный и творческий город.
– Заходи в гости, – просто сказала мама, продолжая изучать трещинки на потолке. – Я, в общем-то, совершенно ничем не занята.
Вот так это все и случилось.
Хуже того, мама пригласила в гости Жениных родителей, искренне радуясь тому, что у ее сына наконец-то появился друг. Я ковыряю заусеницы на пальцах и судорожно думаю, куда спрятать Эдика, как нейтрализовать Ларису Дмитриевну и как уговорить маму не рассказывать Жениным родителям всяческие подробности нашей жизни, а лучше – как не рассказывать вообще все.
– А когда можно к вам прийти? – спрашивает Женя.
Мама сосредоточенно смотрит на часы.
– Ну, например, сегодня, – говорит она.
* * *
Я впервые вижу Жениного папу. Это солидный, пузатый и очень добродушный на вид мужчина. Живо интересуется нашей жизнью, откашлявшись, признается, «что в молодости тоже пописывал стихи». Как я ни старался, вопросов из серии «какова она, жизнь богемы» избежать не удается. Женя то и дело вскакивает со стула и фотографирует. Женина мама старается быть милой и доброй, но я прекрасно вижу, что она подозревает нас в том, что мы подали не очень хорошо помытую посуду. Время идет, я поглядываю на часы и уже с облегчением понимаю, что скоро они поедут домой. Мама держится молодцом, подписывает книги. Она даже голову помыла для такого случая.
А потом я слышу звонок в дверь. На пороге стоит Леонид Вяземский, знаменитый русский поэт, лауреат множества престижный премий, стоит и качается из стороны в сторону, как длинный, слегка кривоватый метроном.
– Ллл, – говорит папа.
– Так, стоп! – говорит папа.
– Лллллиз-ааа! – говорит он.
Я кидаюсь к нему.
– Папа, умоляю тебя, только не сейчас, – шепчу я и понимаю, что у меня на глаза наворачиваются слезы. Но папа у меня очень сильный. И упорный. Так мы и вваливаемся в кухню – папа, передвигающийся от стенки до стенки, и я, как коала висящий у него на локте.
– Лиза, любовь моя! – причитает папа.
Тут координация движений его совсем уже подводит, и он падает на пол. Оказавшись на коленях, папа, видимо, решает, что раз уж он на коленях, то можно и перекреститься.
– Прости меня, Христа ради, Лиза, я тебя люблю, – крестится он.
Я в испуге оборачиваюсь на маму. Ее уже нет за столом, она стоит на коленях перед папой, который тоже стоит на коленях, и плачет навзрыд.
Это уже потом, когда я, боясь посмотреть в глаза Жене, провожаю ее вместе с родителями к машине, поднимаюсь в нашу проклятую квартиру, я останавливаюсь в коридоре. Стою в темноте под дверью в нашу комнату и не решаюсь войти. Я всей душой ненавижу стихи. Стихи – это болезнь. Стихи мешают жизни. Но, стоя в темном коридоре, не зная, куда себя деть, я шепчу мамино стихотворение: