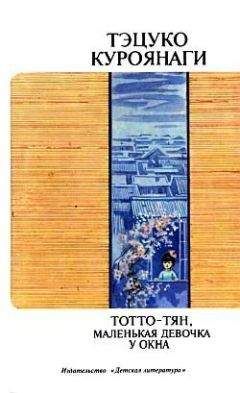Прюнье, лучшей ученице в классе, которая вместе с товарищами расклеивала плакаты, ходила на собрания и на демонстрации. Рассказала и о том, как вайаны звали ее к себе, но она…
Голос ее оборвался. Лучше бы ей не упоминать о Розе и других вайанах! Как странно слушает ее Эржи… А Марика даже отодвинулась от нее немного… Да, собственно говоря, она, Жанетта, ничего не имела против вайанов… это бабушка их ненавидела. Но ведь Мари и Эржи не знают ее бабушку! А теперь они осудят ее, Жанетту…
— Не понимаю, — отозвалась Эржи Шоймоши; лицо ее словно окаменело, голос прозвучал резко. — Только что ты утверждала, что во Франции свобода, а теперь говоришь, что там пионеры работают втайне, собираются, когда темно.
— Но зато кто хочет, — упрямо сказала Жанетта, — никто их не заставляет.
— Еще бы, даже наоборот! Да я бы гордилась и была счастлива, если бы могла работать вместе с ними… с этими…
— Вайанами, — тихо, тоненьким голосом подсказала Жанетта.
— Да, с вайанами. Их работа опасна, они всё время рискуют. Нам-то легко, за нас государство, нам во всем помогают — летние лагеря устраивают, пионерскую железную дорогу, все для нас делают… А они-то, вайаны… Вот где было твое место — среди них! Ты к тому же классу принадлежишь, что и они, — к классу рабочих, вот что! Может быть, ты трусила?
Глаза Жанетты сверкнули. Трусила? Она?! Да весь Трепарвиль знал, кто такая Жанетта Роста!.. Но сейчас она упрямо молчала. Хорошего настроения словно не бывало, от боли и горькой обиды Жанетте хотелось умереть. Мари Микеш отвернулась от нее, потом встала, сделала несколько шагов по комнате и остановилась перед книжной полкой. В комнате была гнетущая тишина. Наконец Мари заговорила:
— Ты сказала, что Роза была твоей подругой?
— Да, — решительно ответила Жанетта. — Я никогда не лгу.
— Я и не говорю этого. Она была лучшей ученицей в классе?
— Да. — Собственный робкий и словно надорванный голос вдруг задел самолюбие Жанетты. Она изо всех сил старалась взять себя в руки и под конец уже почти кричала: — А я была самая плохая! Самая ленивая и самая невнимательная, если хочешь знать! Я ненавижу школу, не хочу учиться… и оставьте вы меня в покое!
Она уткнулась лицом в диванную подушку; все худенькое ее тело содрогалось от рыданий. Пусть уходят, не надо ей никого, не надо… она хочет умереть! Как хорошо было дома! Никто не спрашивал отчета в ее поступках, и жилось так весело, так беззаботно… А здесь ее то и дело оскорбляют и унижают! Зачем они явились к ней, эти примерные девочки?!
— Послушай, Аннушка, — раздался голос Эржи, — ну зачем ты так? Не устраивай представлений. Ну к чему это?
Твердой рукой Эржи повернула голову Жанетты к себе. Жанетта заморгала глазами, изо всех сил стараясь подавить слезы; сквозь густую пелену тумана она видела славное личико Мари Микеш и волевые черты Эржи.
— У нас такой обычай: сделал ошибку — не бойся в этом признаться. Слышала ведь на беседе классного руководителя! Вот и мы ошиблись — не подумали о том, что ты приехала к нам совсем из другого мира. Мы ничего не знаем о твоей прежней жизни. Как-нибудь, когда ты больше будешь нам доверять, расскажи о себе… А мы, конечно, не можем требовать, чтобы ты все сразу поняла… Ведь ты жила в другой стране и не знаешь наших обычаев.
— И я об этом не подумала, — сказала Мари. — Я ведь вижу, Аннушка, что многое ты говоришь из упрямства, а не потому, что так думаешь.
— И ты не всегда откровенна, таишься зачем-то. А ведь мы заключили дружбу, пионерскую дружбу…
— Оставь, Эржи! — звонко воскликнула Мари и пристроилась на диване рядом с Жанеттой. — Долго ты еще собираешься кукситься? — И, склонившись над плачущей девочкой, основательно потрясла ее за плечи своими сильными маленькими руками.
— Оставьте меня, — слабым голосом прошептала Жанетта. — Я очень плохая, сама знаю.
Ну, как тут удержаться от смеха? Лежит на диване худенькая, маленькая фигурка, узкое лицо поминутно меняет выражение — то озаряется радостью, то затуманивается печалью, то горит воодушевлением, то тускнеет в глубокой подавленности… Что за странное создание эта маленькая француженка!
— Не бойся, мы из тебя выбьем плохое! — твердо обещает Эржи.
Мари махнула рукой:
— Дети все плохие. Моя мама говорит, что я чертенок в ангельском обличье.
Эржи тоже бросилась на кушетку и прислонилась к стене.
— А моя мама говорит, что я спорщица, вечно и во всем ей прекословлю и разеваю рот, как венские ворота. А когда я спрашиваю, какие такие эти венские ворота, она опять за свое: не перечь мне, не прекословь! — Эржи помолчала, потом спросила у Жанетты: — Твоя мама когда умерла?
— Летом, — сказала Жанетта. — У нее рак легких был, — тихо добавила она.
— Она была строгая?
— О нет, никогда! — Жанетта наконец поднялась, и вот уже снова все трое сидели рядом, беседуя сердечно и дружески. — Она такая была ласковая… Пожалуй, она папу любила больше, чем меня.
— Какие глупости ты говоришь, Аннушка!
— Да нет, это правда, раз я говорю! Больше всего я бывала с бабушкой. Она тоже очень хорошая! — И снова повторила, словно убеждая кого-то: — Право же, хорошая. А когда мама умерла, ей устроили красные похороны.
— А что это значит?
— Что? Ну вот за гробом идет огромная-преогромная толпа народу, и поют… и все с красными флагами. На мамины похороны даже из Парижа приехали, и весь Трепарвиль там был…
Слово за слово, и она чуть было не рассказала, что одна только бабушка не пошла на красную панихиду — не могла вынести, что ее дочь без попа, без церковного отпевания «бросили в яму». За эти несколько недель, проведенных в обществе тети Вильмы, в новой, переполненной событиями жизни Жанетта все чаще вспоминала свою бабушку. Кругозор ее вдруг прояснился, и она, желая