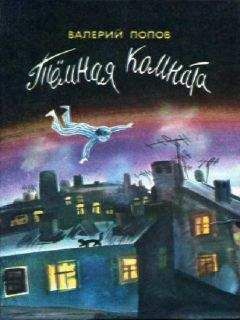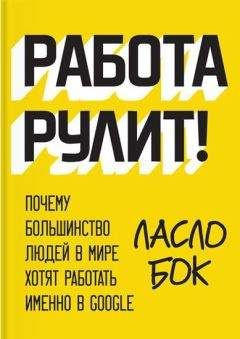Когда мы, уже вчетвером, вошли в ту комнату, — она не была уже тёмной, светомаскировка с окон была снята, — вдруг небо за окном почернело, пошёл снег, — это в конце-то мая! Помню, я испугался, но не очень: всё может быть в нашем климате. Потом мы спустились по винтовой лестнице в подвал.
В полной тьме мы нащупали тяжёлый ящик, впихнули его по лестнице наверх. За окном всё ещё шёл снег. Мы вытащили ящик в коридор Гагиной квартиры — и увидели солнце за окном. «Мало ли что бывает в нашем климате!» — подумал я. Без всякой посторонней помощи, сами, отволокли ящик во второй двор.
Наступил торжественный момент вскрытия. Под крышкой лежала в два слоя гофрированная бумага.
— Классная упаковочка! — замирая, проговорил Маслёкин.
Гага дрожащими руками свернул бумагу в трубку. В фанерных ячейках торчали бутылочки, завёрнутые ещё дополнительно в какую-то сухую растительную плёнку.
— Лыко кокоса! — растерев кончик плёнки между пальцами, авторитетно проговорил Долгов.
Гага развернул первую бутылочку. Все уставились на неё… На зеленоватой наклейке был изображён черноусый красавец и вокруг него извивалась надпись: «Усатин».
— «Усатин Гебгардта», — спокойно проговорил я. — Придаёт всяким усам удивительно изящную форму и сохраняет их глянец и мягкость.
Все молчали. Гага вдруг повернулся и ушёл.
На следующий день, не утерпев, все мы пришли в школу с флаконами «Усатина». Надо сказать, что вещество это не испортилось, — пахло, во всяком случае, очень приятно. То и дело, к зависти девчонок, кто-нибудь из нас вынимал красивый тёмно-коричневый флакон, со шпокающим звуком выдёргивал пробку и, закатив глаза, с наслаждением нюхал.
— Что это у вас? — озадаченно проговорил Игнатий Михайлович. — Никогда ничего такого не нюхал!
— Тогда мы просто обязаны, — поднялся тут Долгов, наш хитрец, — более того, считаем прямым своим долгом преподнести вам этот изящный флакон!
— Откуда у вас такая редкость? — взяв флакон, изумился Иг. — Жаль, что у меня нет усов!
— А вы отрастите, Игнатий Михайлович, вам пойдёт! — почему-то глянув перед этим на меня, сказала Рогова.
— Потрясающе! Тысяча девятисотый год! Начало нашего века! — восхищался Иг. — Одна такая вещь говорит о времени больше, чем десяток книг!
— Берите, берите! — пробормотал Гага.
— Да нет. Я просто не достоин того, чтобы обладать такой драгоценностью! Я слышал, открывается музей старого быта и техники, — надо отнести флакон туда, думаю, там ничего подобного нет! Кто это разыскал?
Все стали поворачиваться к Гаге.
— Мосолов мне тоже помогал! — глянув в мою сторону, буркнул Гага.
Ночью мне приснилась страшная земля, скатывающаяся по краям, вся покрытая туманом. Из неё поднимались полупризрачные столбы, — какой высоты они были, трудно было сказать, — ничего знакомого для сравнения рядом не было. Столбы медленно перемещались в тумане, соединялись в группы, потом абсолютно симметрично расходились, соединялись с другими столбами в отдалении, снова расходились. Самое страшное было в том, что я откуда-то знал, что столбы эти были разумны, более того, я был одним из них.
«Наверное, — проснувшись в холодном поту, подумал я, — хихамары унесли меня к себе, теперь я один из них, а здесь они оставили своего, замаскированного под меня, а там я видел сейчас себя!..»
В первый день каникул я решил наконец отдохнуть. Я лежал на диване. Флакон «Усатина» красовался на тумбочке.
Раздался звонок, бабушка впустила Гагу. Гага молча сел рядом со мной, открыл «Усатин», налил в ладонь, задумчиво пошлёпал по верхней губе.
— Свежайший аромат! — проговорил он.
Я приподнялся на диване. Я достаточно уже знаю Гагу, чтобы почувствовать, когда он говорит что-то просто так, а когда — с подвохом.
— Хорошо сохранился! — спокойно ответил я.
— Всего восемьдесят лет прошло! — небрежно проговорил он.
Я вскочил, сел на диване, мы стали смотреть друг другу в глаза.
— И что ты хочешь сказать? Что «Усатин» сделан недавно?
— Ну разумеется! — ласково, как ребёнку, сказал Гага.
— И кем же?
— Провизором Остроумовым, кем же ещё?
— Ты хочешь сказать…
— Ну наконец-то сообразил, умный мальчик. Мы просто побывали в том времени.
— Так… — Я снова лёг.
— Тут вообще в нашем районе, — разглагольствовал Гага, — было множество лавок и мастерских. Сами названия улиц за себя говорят: Стремянная, Перекупной, Свечной, Кузнечный, Ямская.
— Пошли. — Я поднялся с дивана, стал надевать ботинки, уже зная, что спокойно наше свидание не кончится.
— Торопиться не советую, — холодно проговорил Гага. — Нет никакой гарантии того, что мы снова… к Остроумову попадём. Спокойно можем… и к мамонтам попасть — и это в лучшем еще случае!
— А в худшем? — Я похолодел.
— Можем в абсолютно неизведанный мир попасть, — спокойно проговорил он. — В такой, где мы сразу забудем, кто мы, и сама мысль о возвращении исчезнет. Можем и к хихамарам твоим забрести, — усмехнулся Гага. — А может быть, к самому началу времени попадём, если только имелось такое, о чём философы не устают спорить… — Он задумчиво постукал карандашом по зубам. — Но вряд ли у наших предков имелись тогда органы чувств, так что вряд ли мы что-то вообще ощутим…
— Ты хочешь сказать… что, проходя через какую-то точку, мы не только меняем пространство и время, но и сами меняемся?
Гага застыл с карандашом между зубами.
— Грамотно сформулировано! — наконец кивнул он.
Я вспомнил, как мне снилось, что в тёмной комнате валяются предметы, которые мало сейчас кто помнит: маялка, самодельная кукла. Потом ощутил, очень ясно, как я приснился себе в виде сороконожки в песке. Я понял: это были не сны — сигналы из других миров, которые совсем рядом.
— А я знаю, куда ушли жильцы, когда бомба попала в дымоход! В наше время!
— Вполне возможно, — снисходительно кивнул Гага.
Я встал, надел пиджак, начал застёгиваться.
— Далеко собрался? — спросила бабушка.
— Да как сказать, — задумчиво проговорил я.
Я посмотрел на неё. Хорошая у меня бабушка! Потом я зачем-то долго чистил пиджак: мочил щётку под краном и снова чистил. Потом, прощаясь на всякий случай и со щёткой, провёл рукой по щетине, и щётка брызнула на меня водой. Хорошая всё-таки жизнь окружает нас, щётки и то как живые!
Мы вышли с Гагой во двор. Подлетела старая газета и стала тереться об мою ногу, как кошка.
Потом мы прошли через Гагину квартиру и открыли дверь в тёмную комнату.
Думал я, что меня не вызовут, математику не делал, вдруг — бац! — контрольная! И как раз на новые правила, которые учить надо было!
Учитель математики Иван Захарыч написал на доске два варианта, сел.
Стал я думать и гадать, что делать. Вдруг Витька Григорьев, который на парте один впереди меня сидит, руку поднимает:
— Иван Захарыч! Можно, в другой ряд сдвинусь? Отсвечивает!
— Ну давай, Григорьев! Надо было сразу сказать — десять минут уже прошло!
— …Десять минут!
Склонился я снова над листочками, решать стал первый пример, — вдруг Витя опять руку поднимает:
— Иван Захарыч! Можно обратно передвинуться? Тут ещё сильнее отсвечивает — ничего не видно!
— Ну хорошо, Григорьев, сдвигайся! Только поторапливайся — пол-урока уже прошло!
— Пол-урока!
Решил я пример, за задачу взялся. Но без успеха: задача как раз на новое правило, а я его не учил, всю неделю в учебник не смотрел! Уверен был, что соображу: по математике у меня, как и по другим предметам, впрочем, отлично, в основном, думал, и тут соображу, но что-то не соображаю…
Конечно, можно в учебник залезть, правило посмотреть — Иван Захарыч не замечает обычно, — но не в моих это правилах — запрещёнными приёмами пользоваться!
Как папа мой говорит: «Лучше красиво проиграть, чем некрасиво выиграть!»
И я согласен.
…Стал от нечего делать по сторонам смотреть. Григорьев впереди меня неподвижно сидел, даже к ручке за всё время не прикоснулся. Вдруг — осенило его! — вскочил, глаза с листочка не сводит.
— Ти-ха! — как закричит.
Все замолкли испуганно, кто говорил. А Витька опустился на парту, лихорадочно стал писать. Потом гляжу: медленней пишет, медленней… остановился.
— Нет, — тихо говорит, — не то.
Потом снова неподвижно сидел. Потом снова вдохновение:
— Ти-ха!
Даже Иван Захарыч оцепенел, который сданные уже листки проверял.
— Нет, — Витя говорит, — не то!
Иван Захарыч, на наручные часы посмотрев, говорит:
— Спешить не надо — поторапливаться надо!
Эту фразу он всегда говорит, когда до звонка секунд так двадцать осталось.