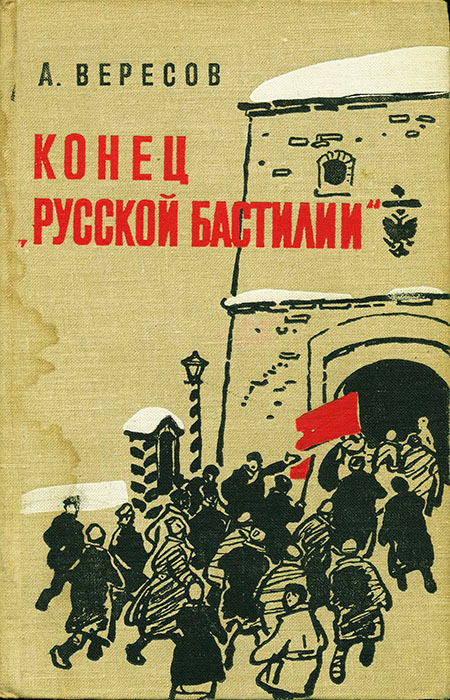бы то ни было, понимал, что в век электричества и телеграфа средневековые средства устарели.
Еще у многих была в памяти статья, напечатанная в английской газете «Таймс», о жестоком, бесчеловечном режиме в Шлиссельбургской крепости. Эту статью королева Виктория переслала своему внуку, датскому принцу. Тот обратился прямо к царю Николаю. Конечно, речь шла не о замученных людях, но о том, как это могло стать известным всему миру.
Злополучная статья в «Таймс» появилась до 1905 года. Теперь же и в русских газетах нет-нет, да и проскользнет заметочка о благословенном острове. Все-таки шлиссельбургская каторжная тюрьма слишком близка к столице.
Но у царевых палачей свое правило: бей, да без следов, глуши, да без шума. Не так уж трудно убить человека в человеке.
Ох, как остро Владимир чувствовал это затаенное кнутобойство. Отнято все, что наполняет жизнь. Существование становится бессмысленным. Нет деятельности, общения с товарищами, нет книг. Медленная, неотвратимая казнь.
Но они ошибаются, заплечных дел мастера. Право мыслить у человека отнять невозможно.
«Нет, мы не на коленях! Не на коленях!» — Владимир бегал по камере. Он стучал кулаком о кулак.
С начала весны каторжане готовились. Почта в бане не пустовала.
Обнаружилась не слишком значительная, но странная черта в жизни «политиков». Все начали курить, даже те, кто табачного дыма не выносил. При этом куда-то исчезала красная подкладочная бумага из махорочных пачек… Надзиратели не обращали внимания на такой пустяк.
Заключенные на прогулках тихонько и неприметно переговаривались. Больше всего они боялись спутать числа, — в крепости календарей нет.
Наступило первое мая. С утра не произошло никаких событий. Но в третьем, «народовольческом» корпусе каторжане вышли на прогулку с красными бантами. Махорочные бумажки были вдеты в петлицы арестантских халатов.
Вторая смена повторила демонстрацию. Шагали, как обычно, гуськом, но в ногу. Без слов люди пели «Марсельезу».
Зрелище было удивительное и даже торжественное. Стучали кандалы, звучала революционная песня. Кто поет, кто молчит — не разобрать. Губы у всех плотно сжаты. У каждого на груди — красное. Как капелька крови, выступившая из сердца.
Прогулочный надзиратель испуганно попятился. Он отступил за кирпичный столб и дернул шнур вызывного колокольчика.
Немедленно появившийся Гудема рявкнул на надзирателя:
— Чего глядишь? Вызвать конвой! Кончать прогулку!
Люди шли, звеня кандалами. Шли и пели.
Солдаты хватали их, тащили в камеры. Никого не били.
На этой необыкновенной маевке не произносили речей. В третьем корпусе чувствовалось настроение праздника. Каждый выразил свое заветное:
— Мы не на коленях!
Начальник крепости и тюремный инспектор обошли камеры. Политические заключенные говорили одно и то же:
— Требуем улучшения пищи, отмены обращения на ты, выдачи книг.
Начальство возмущалось явным сговором каторжан.
Истинные организаторы маевки: Жадановский, Лихтенштадт, Петров — сознавали, что добиться выполнения этих требований нелегко.
Другие корпуса не выступили вместе с третьим. Уголовные, тюремная «серая кобылка» — их в крепости большинство, — не поддержали политических.
Владимир целыми днями думал об одном: «Все надо было делать по-другому. Главное — по-другому начинать».
Но чем больше он размышлял, тем ясней открывалось ему значение события. «Мы объявили войну крепостному начальству. Теперь — не отступать!»
Это была борьба, без которой Владимир не представлял жизни. Жизнь и борьба — всегда рядом.
В крепости ползли слухи о том, что Зимберг и Гудема ищут зачинщиков маевки. Потом стали говорить определеннее: в третьем корпусе будет порка. Жук передал товарищам, что, если его выпорют, он зарежется.
Старая монета из банной «ховиры» исчезла. Иустин заточил ее с одного края. Он точил ночью о железные перекладины койки. Монету следовало перепрятать, чтобы она всегда была под рукой. Но куда? Из складок одежды ее вытряхнут при первом обыске. Койка? Оконная решетка? Лампа? Нет, все не то. Заметят.
Наконец-то нашел, нашел! Как только раньше не сообразил? Самое подходящее место для того, чтобы спрятать монету, превращенную в нож, на асфальтовом полу, в углу камеры, куда глаз надзирателя заглядывает не так часто.
Иустин начал разогревать асфальт, — теплом ладоней, дыханием. Дело не подвигалось. Тотда он стал ставить на пол кружку с кипятком. Асфальт поддавался почти неприметно. Все-таки поддавался.
Работа заняла больше недели, так как надолго сохранить тепло в окаменевшем составе было трудно. Едва лишь асфальт размягчился, Жук погрузил в него монету и заровнял пол.
«Теперь сам черт не разыщет!» — решил узник.
В этот день надзиратель в неурочное время открыл камеру и велел Жуку выходить.
Его привели к Зимбергу. Комендант обрадовался «старому знакомому»; он обежал его вокруг, поглядывая замаслившимися глазками снизу вверх.
— Здоровый, и в самом цветущем виде. А говорят, что в крепости плохо живется. Вот ведь что говорят!
Иустин сдвинул брови — густые, мохнатые, они слились в сплошную линию. Черная черта, под нею — два горящих угля. В мозгу ворочается мысль: «Велит пороть или нет?»
Комендант обжегся о глаза-угли, перестал суетиться, сел за стол. Но благодушие в голосе осталось:
— Как же это вы придумали устроить демонстрацию? Первомайская демонстрация в Шлиссельбургской крепости! Ловко, очень ловко… Кто же это у вас такой сообразительный? Я спрашиваю, кто придумал?
Иустин будто не слышит вопроса.
— Кто? Кто?
Зимберг почти шепчет. Потные ручки потирают одна другую.
Ни слова в ответ.
Зимберг укоризненно качает головой. Он сердится.
— Сначит, ты и есть сачинщик. Молчишь — сначит, ты и есть.
Мохнатая черта над глазами каторжанина шевельнулась. «Сейчас, сейчас будет произнесено смертельное слово: выпороть!»
— Что же мне с тобой телать? — задумался Василий Иванович, по его розовому лицу прошла благостная улыбка. — Получишь карцер. В Светличную башню на тридцать суток!
Двое солдат, стоявших у дверей, подняли ружья на-ремень!
Иустин вздохнул с облегчением: «Карцер, только и всего!» Солдаты переглянулись. Не первого каторжника ведут они в башенные карцера. Тридцать суток! Ну и добрая же душа у Василия Ивановича.
У Жука отобрали шапку и тряпицу, заменявшую носовой платок — все, чем он мог бы задушить себя. Взяли так же и подкандальники — полоски из плотной ткани, которые мешали железу въедаться в кожу.
Его вывели к уже знакомому зданию Старой тюрьмы. Каменная винтовая лестница в несколько ступеней. Полная темнота. Узник догадался: он в Светличной башне.
Его подтолкнули. Дверь заскрипела, открываясь. С таким же долгим скрипом захлопнулась.
Жук, вытянув вперед руки, сделал шаг и ударился головой о своды. Прислонился к стене. Она была мокрой и липкой. Должно быть, карцер никогда не отапливался. Сырость здесь копилась столетиями. Иустин кашлянул. Глухой звук отдался в одном углу, в другом — так отчетливо, что узник подумал,