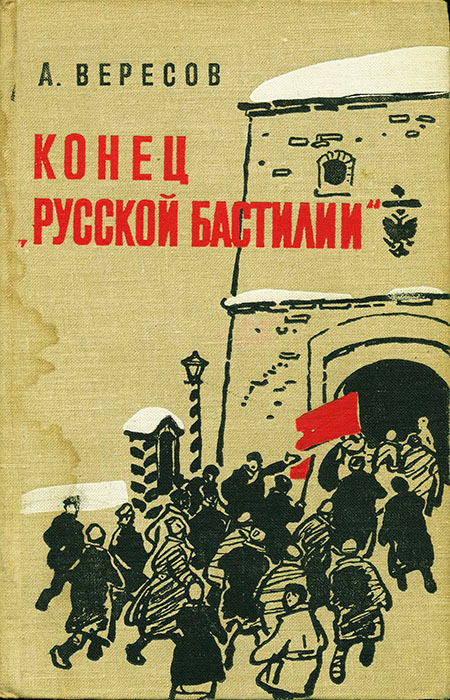нет ли еще кого-нибудь в этом каменном мешке. Спросил:
— Кто здесь?
Никто не ответил. Ползком добрался до доски — нарки, брошенной на пол, снял с ног коты, положил их под голову. Лег.
Карцер не пугал Иустина. Он заснул.
Проснулся от холода. Казалось, от стен протянулись невидимые щупальцы и высасывают из тела остатки тепла.
Надзиратель принес кружку речной воды и кусок хлеба. Наздиратель светил себе фонарем. Фитиль горел тускло, вот-вот погаснет. Воздуха не хватало даже для этого крохотного огонька.
Свет фонаря был единственным событием в карцерной жизни. Иустин успевал за эти мгновения обежать взглядом тесные стены. Он заметил, что они исцарапаны во многих местах.
Когда надзиратель пришел во второй раз, Жук уже разобрал, что это надписи, оставленные прежними «жильцами» карцера.
В полной темноте он ощупывал пальцами буквы и строки. Он учился читать как слепой. В ту скупую минуту, когда приходил надзиратель с фонарем, Иустин проверял, правильно ли прочитано.
«За то, что обругал смотрителя!» — сообщала одна надпись.
«Ищи: спички и табак затырены в углу. Помни Митьку Кривого», — говорила вторая.
Жук обшарил все углы, но ничего не нашел. Наверно, кто-нибудь уже воспользовался неожиданной передачей.
Кто он, Митька Кривой? Неведомо. Но, конечно, человек, знающий, почем фунт тюремного лиха, раз уж не пожалел поделиться с товарищем такой ценностью.
Третья надпись была самой короткой и внушительной: «Долой самодержавие!»
Кто начертил ее на камне острыми, кричащими буквами? Никогда не узнают имени этого мужественного человека. Он поделился со страдальцами Светличной башни своим бесстрашием.
В карцере, в полной темноте необыкновенно изощряются все чувства. Иустин слышал отсюда, как в непогоду волны Ладожского озера бьются об остров.
Но одного не мог уловить — смены дней и ночей. В башне у них был одинаковый цвет: черный.
Сколько времени Жук уже находился в карцере? Сначала узник считал поверки.
Надзиратель — тот же, который приносил хлеб и воду, — в час, когда повсюду в крепости проверялось число каторжан, открывал дверь, говорил: «Один» — и сразу захлопывал ее…
Жук терпеливо ждал окончания карцерного срока. Наказанный привык ко всему. Не сумел привыкнуть лишь к боли, которую вызывали кандалы, врезаясь в руки и ноги. Боль пронизывала, жгла. На исходе месяца Жук заболел. Сказалось ли недоедание, началось ли заражение крови, но он больше не поднимался с нарки. Бредил. От кого-то убегал, натыкался на стены, падал.
Увидев его в таком состоянии, надзиратель отправился за фельдшером. Тот пришел, носком сапога перевернул больного на спину, осветил лицо.
— Еще живой, — сказал он и повернулся к выходу.
Начальник тюрьмы, которому доложили о положении Жука, развел руками:
— Свой срок в карцере он должен отсидеть или отлежать, это его дело.
Тридцать суток карцера в Светличной башне были убийством. Меньше Зимберг никогда не назначал.
Из каменного мешка Иустина вывели под руки. Дневного света он вынести не мог, закрыл лицо ладонями.
Он был страшен. Зарос волосами, одичал. Даже голос изменился, стал неузнаваемо хриплым. Кандалы от сырости заржавели, въелись в загноившееся мясо.
Жука доставили в больницу. Она находилась в одном корпусе со «зверинцем». Те же камеры, забранные решетками окна. Но воздух, пропитанный запахом карболки, еще противнее.
Осматривал Жука статный молодой врач в пенсне с тесемочкой, переброшенной за ухо. Он отпустил конвойных и подошел к узнику. Иустин выпрямился. Он не мог отвести глаз от блестящих пуговиц на тюремном мундире, — белый халат был только наброшен на плечи.
Внезапно Жук шагнул вперед. Он занес над головой скованные руки и обрушился на стоящего перед ним человека всей тяжестью кандалов и своего тела. Оба упали.
Очнувшись, Иустин до мелочей припомнил все происшедшее. Он отдавал себе отчет в том, что его ждет суд скорый и немилостивый. За оскорбление действием любого тюремщика арестанты обычно платились жизнью. Хроника Шлиссельбургской крепости насчитывала многих расстрелянных по такому обвинению.
Перевязывал Жука тот же, в пенсне. У него были легкие, ловкие и сильные пальцы. Он спросил:
— Не больно?
Вопрос этот удивил Иустина…
Позже, в полубреду, он слышал разговор у своей постели.
Врач говорил, что с больного необходимо снять кандалы. Отвечал ему резкий голос Гудемы:
— Будто вы не знаете, что железа снимаются только с мертвого каторжника.
Снова — доктор:
— В таком случае я не отвечаю за его выздоровление.
И опять — Гудема, с иронией:
— Велика беда… Вам, милейший, не в крепости, а в институте благородных девиц служить…
Человек в белом халате накладывал бинты под замкнутыми кандалами. Иустин хотел посмотреть ему в глаза, но он упорно отводил их.
Выздоровление возвращало узнику жажду жизни. Он все чаще думал о прошлом, о будущем. Правда, будущее могло оказаться очень коротким. Жук хорошо помнил, как ударил доктора кандалами. Скоро придется отвечать. Но сколько еще времени может тянуться неизвестность? Надо было прямо поговорить об этом с доктором. Так Иустин и поступил.
Человек в белом халате подергал тесемочку пенсне.
— Вы были в сильном бреду. Вероятно, вам все почудилось.
И вышел из камеры, прямой, холодный и строгий.
Жука перевели из больничного каземата в крепостной. Уходя, узник спросил фельдшера:
— Скажи, как зовут этого, в пенсне?
— Они новый тюремный дохтур, — неодобрительно ответил фельдшер. — Эйхгольц их фамилия.
«Мама! Посылаю, как ты просила, список книг. Рубакин, Стенли, Петрашевский… Я хотел бы фотографии Гете, Бетховена, Чехова и снимок с „Острова мертвых“ Беклина».
«Мама! Что это ты вздумала схватить такую гадость — это совершенно лишнее. Вероятно, в вашем „корпусе“ условия гораздо хуже, чем у нас, ибо мы благоденствуем и не знаем ни о каких инфлуэнцах… Прежде всего — книги…»
«Какой ветер! По ночам так жалобно завывает в трубе и окне, словно просится погреться… Я сейчас, впрочем, в отъезде: странствую вместе с Ключевским по лесам и долам Древней Руси — Киевской, Новгородской и Суздальской».
«Ну, да ладно — раз корыто все-таки не разбито, нечего над ним и причитывать. Сколько еще впереди!»
«Людей, людей, людей! Как мне нужны люди, как заражает меня все молодое, задорное, смеющееся… И так — да здравствует жизнь, и — к работе!»
Из дневников и писем В. Лихтенштадта.
Библиотека Шлиссельбургской крепости была наследием народовольцев. Это они завоевали для следующего поколения каторжан право на чтение — право, равное жизни.
Они говорили: «Без книг… это хуже, чем смерть!» Ни малейшего преувеличения нет в этих словах. Только работа ума, закаляя душевную силу, могла спасти от сумасшествия в крепостном каземате.
И люди бестрепетно шли на смерть, чтобы завоевать,