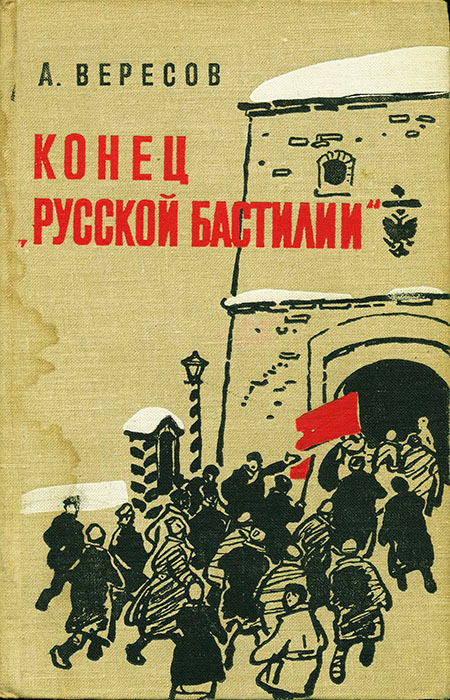если не для себя, то для других, великое право мыслить.
Один из самых трагических протестов в истории Шлиссельбургской каторги был связан с требованием книг. Осенью 1884 года революционер, чудесный музыкант и певец, любимец товарищей Егор Минаков объявил голодовку в ответ на отказ дать ему возможность читать книги по собственному выбору. В исступлении он кулаком ударил тюремщика.
Суд состоялся здесь же, на острове.
В сентябрьское утро в камерах услышали крик Минакова:
— Прощайте, меня ведут на казнь!
Через несколько минут в цитадели прозвучал залп. Так кончилась жизнь революционера. И так начиналось существование шлиссельбургской библиотеки.
Тюремщики столкнулись с неколебимой волей заключенных. Расстрел Минакова никого не устрашил. Многие готовы были разделить его участь.
Не всех же казнить? Неизбежны огласка, шум. А палачи испокон веков боятся света, огласки. «Пусть уж лучше бунтари смирненько сидят по камерам и читают. Их песенка спета, крылья связаны, не улетят… Да и книжки можно подсунуть душеспасительные. Вреда от этого никому не будет, а может, еще и польза получится: глядишь, иной крамольник на стезю праведную вступит», — так думало крепостное начальство.
Невежды всегда относятся к чтению и книгочеям со скрытым или явным пренебрежением: чтение — не действие.
А получилось действие. Да еще такое, что приостановить его нельзя.
Чем стала библиотека для народовольцев, пожалуй, всего яснее видно на удивительной судьбе Николая Александровича Морозова. В первые годы ему не давали никаких книг, кроме богословских. Он от них не отказался. Библию и Евангелие он читал исправнее любого студента духовной академии. Но каждую страницу просвечивал острым лучом разума.
В крепости Морозов начал собирать материалы для фундаментального труда «Христос». Этот труд ниспровергал многовековые мифы христианства. Арестант, заброшенный на крохотный невский островок, поднял руку на бога!
В течение почти четверти века своего заточения Морозов прочел множество книг, с надзирательской точки зрения невинных. Он изучал математику, механику, физику, химию, астрономию, естественные науки во всем их многообразии.
Он размышлял о бесконечно огромном звездном мире, о бесконечно малом мире незримых атомов и поражался стройности их законов.
Шлиссельбургский узник не соглашался с учеными, которые считали атомы неделимыми. Нет, каждый из них состоит из еще более мелких, взаимосвязанных частиц. Мысль эта, разработанная многими учеными, позже принесла революцию в науку!
В своей одиночке Николай Александрович Морозов написал книгу «Периодические системы строения элементов». Он просил передать рукопись великому русскому химику Менделееву. Конечно, тюремщики этого не сделали.
Выйдя на свободу, Морозов сам выполнил свое давнишнее желание. Менделеев восторженно оценил его работу. Он добился, чтобы шлиссельбуржцу за труд, созданный в тюрьме, присвоили звание доктора химии…
Все, без исключения все оставшиеся в живых народовольцы вспоминали о завоеванной библиотеке, о книгах — своих верных друзьях в заточении — с нежным и светлым, благодарным чувством.
В короткий срок, после 1905 года, когда остров и камеры крепости пустовали, библиотека сильно поубавилась. Но то, что осталось от нее, перешло к молодому поколению шлиссельбуржцев.
Во многом библиотеку надо было создавать заново. Предстояло повторить путь, уже пройденный однажды на рубеже века…
Владимир Лихтенштадт еще на воле обдумал работу о Гете, он хотел написать книгу о материалистическом мировоззрении гениального немецкого поэта.
В крепости времени для этого хватало с избытком. Но — книги! Без книг нечего и приниматься за дело.
И все-таки библиотека нужна ему не для изучения Гете. Это второстепенное. Главное — совсем в другом.
Владимир хорошо понимал, чем была библиотека для народовольцев. Почти все они, люди образованные, за книгой пополняли свои знания. Теперь в крепости — революционеры, большею частью — из гущи народной. Для них библиотека должна стать первым учителем и первой школой.
Все, с кем Владимир поделился своей мыслью, горячо одобрили ее…
В крепости, в видах хозяйственных, создавались мастерские: сапожная, швейная, столярная. Политические заключенные согласились работать в мастерских с тем, чтобы заработанные деньги шли на покупку книг. Но начальство упрямо стояло на своем: покупать только духовные книги.
Каторжане третьего корпуса работали в переплетной мастерской, которая находилась в нижнем этаже. К ним пришел постный, сухонький чинуша, инспектор тюремного управления, чтобы произнести следующую речь:
— Философскую литературу вы не получите, и не требуйте. Она развивает у арестантов всякие фантазии. Читайте книги, которые учат смирению и покорности.
В мастерской засмеялись. Инспектор нахмурился.
— Читайте Четьи-Минеи. Увлекательнейшая книга. Я и сам ее читаю.
Заключенные хохотали так, что стекла в тесном помещении звенели. Инспектор опасливо убрался за порог…
Потребность в книгах на острове была настолько велика, что вызвала явление своеобразное и беспримерное. Появились так называемые «живые книги». Среди политических каторжан нашлись люди с феноменальной памятью. Один из них знал наизусть первый и второй тома «Капитала» Маркса. Другой — прекрасно помнил университетский курс античной истории. Лихтенштадт хранил в своей памяти едва ли не всего Пушкина.
Товарищи, которых интересовал тот или иной предмет, просились на прогулку с «живой книгой». И тот, кто носил это почетное звание, добросовестно листал в своей памяти страницу за страницей.
Но круг такого «чтения» был поневоле ограничен. Ничто не могло заменить простую, печатную, любимую всеми книгу.
За неумеренно настойчивое требование литературы в карцере побывали Жадановский, Петров, Лихтенштадт и многие другие. Они выходили из Светличной башни, отлеживались и, чуть встав на ноги, повторяли свое требование.
Каторжане умели задавать Василию Ивановичу Зимбергу вопросы, на которые ему было очень трудно ответить. Несколько лет назад на острове библиотека существовала. Почему она не может существовать теперь? Почему то, что разрешалось при блаженной памяти Александре Третьем, должно запрещаться при ныне царствующем Николае Втором?
Недавнюю маевку начальник крепости хорошо запомнил. Пожалуй, разумнее всего предупредить новый протест. Пусть уж лучше корпят над книгами, вместо того чтобы устраивать демонстрации. Все-таки спокойней!
Владимир Лихтенштадт отдавал должное постепенности и осторожности в таком деле. Он нащупывал пути, ведущие к известному петербургскому книгопродавцу Вольфу, поставщику двора его величества. Конечно, немалая ирония судьбы заключалась в том, что Вольф снабжал своими изданиями одновременно царя и каторжников.
Списки составлялись на книги, в которых и намека не могло быть на порицание государственного строя России. Каторжане применили уже испробованный в прошлом способ замены в заглавиях слова «социалистический» словом «салициловый». На первых порах эта замена оставалась незамеченной.
Списки просматривал и наполовину сокращал Зимберг. Затем еще многое вычеркивали в тюремном управлении. Все же кое-что от поставщика двора его величества получили.
Письма, которые изредка разрешалось писать родным, — одна страничка, насквозь прочитанная и исчерканная Гудемой, — заполнялись просьбами о присылке книг. Владимир с нетерпением ждал «Фауста» и томик Чехова.
Важным источником