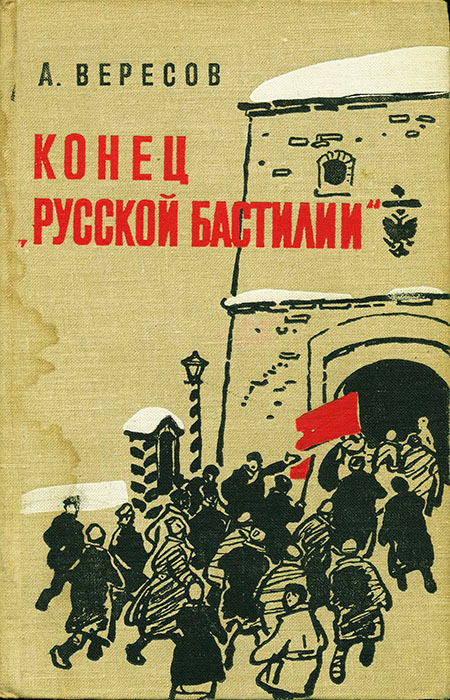согласился учиться Иван Орлов. Он отнесся к этому, как к шутке. И правда, все складывалось забавно. Бородатый, лысый разбойник твердил: «ба-ба», «ма-ма».
Его поднимали на смех. Он в ответ подмигивал: дескать, вот потеха, ну не чудак ли этот «очкарь»?
Орлов, чтобы позабавить приятелей, переиначивал слоги и, ломая грифелек, негнущимися пальцами выводил палочки, кружочки.
Школьник он был бестолковый, все позабывал, путал. Нельзя было понять, действительно перевирает он сочетания букв или делает это для насмешки над терпеливым Лихтенштадтом.
Все лето и всю осень самым большим развлечением в каземате были уроки, которые Владимир давал старшо́му.
Орлову громко подсказывали; вопили, топотали ногами, когда он отвечал невпопад.
Но закоренелый плут и здесь хитрил. Может быть, никто не понимал этого, кроме Владимира. Потому он и не бросал занятий. Прежде Лихтенштадт не раз под диктовку Орлова писал письма к его дочери. Сейчас — это было рано утром, при слабом свете, пробивавшемся через окно, — диктовал Владимир, а писал Орлов, впервые сам:
«Олюшка! Шлет тебе привет твой отец из Шлиссельбургской крепости. Я научился грамоте, и пишу тебе письмо собственноручно».
Орлов вдруг схватил листок и, не веря в тайну этих черненьких буковок-закорючек, не веря себе, закричал:
— Братцы! Это же я написал Ольге моей письмо!
В камере было тихо. Никто не смеялся, не шутил…
У Лихтенштадта нашлось еще несколько учеников. Потеха кончилась. Началось учение. Каземат и впрямь стал чем-то похож на школьный класс.
Конечно, он оставался обыкновенным тюремным казематом, с потемневшими от грязи стенами, с галдежом и частыми драками. Но тут же, на нарах или за столом, можно было увидеть двоих-троих человек, которые, не обращая внимания на шум, беседовали, читали, писали.
Тогда еще немногие понимали, что это — удар по бесшабашной тюремной «шпанке»…
────
Весной, только прогнало по Неве последние льдины, маленький пароход с облупленными бортами выгрузил на островной пристани мешки и ящики. В них были калачи, круглые хлебцы, чай Высоцкого.
Каторжники принимали это добро, быстро управлялись с ним и говорили почему-то без всякой благодарности:
— Это наша купчиха расстаралась или генеральша какая.
Крепость иногда получала хлебное подспорье с воли. В народе с далеких времен существовал обычай собирать подаяние для каторжных, для «несчастненьких». Этот сбор, при всей его скудости, принимался охотно, «во спасение души».
Но была еще милостыня от богатства, от ханжества, не от доброго сердца.
— Грехи замаливают. На нашем горбу хотят в рай въехать, — зло шутили арестанты.
За последний десяток лет вокруг Шлиссельбургской крепости непрестанно роились «душеспасители».
Народовольцев «спасала» представительница одной из самых знатных фамилий в России, дряхлая княжна Дундукова-Корсакова. Она даже поселилась в Шлиссельбурге, чтобы быть поближе к крепости.
Княжна старалась вернуть революционеров к религии. Но успеха не имела.
Потом ее место заступила известная среди петербургских дам-патронесс купчиха Воронова. Она была косоглазая и тщедушная, с крысиным лицом, поросшим седыми волосами.
Воронова обращала иноверцев в православие, раздавала зеленые книжечки — проповеди «Исаакиевской кафедры». Они начинались словами, которые в тюрьме звучали величайшей нелепостью и насмешкой: «Все люди братья».
Купчиху допускали в крепость. Каторжников вызывали к ней для разговора. При встрече она, по-монашески опустив глаза, произносила неизменное:
— Храни Христос.
И нередко слышала в ответ:
— Нас больше надзиратели хранят, матушка.
С недавних пор до каторжан дошли слухи, что объявилась новая «генеральша». В точности о ней никто ничего не знал. Одни говорили, будто она доброй души человек, другие называли ее первой богачкой в столице. Известно было, что последний пароход с припасами прислан ею. Догадки эти не слишком занимали заключенных. Воронова ли, иная ли благотворительница — все едино.
Однажды Лихтенштадта вызвали в камеру для свиданий. Орлов ехидно напутствовал его:
— Ну, готовься к божественному разговору. Воронова — старуха въедливая, держись, брат.
Владимир и сам подумал с досадой: «Что нужно от меня этой ханже?» Он решил ни в какие разговоры не вступать, только отвечать на вопросы, по возможности вежливо.
Когда вели лестницей, он посмотрел в окно. По озеру ходили волны. Надзиратель пропустил его в дверь.
Владимир остановился, боясь спугнуть видение, сон. Родное, смуглое лицо. Родные глаза. Он кинулся вперед с криком:
— Мама!
И ударился грудью о прутья решетки.
Неправда, что всякое горе притупляется временем.
Мать, у которой отняли единственного сына, отняли на муку, на казнь, никогда не перестанет думать о нем с болью.
Но горе можно «переломить». Как всякое сильное чувство, оно ищет выхода, и если не свалит человека, то двинет его на великое — труд, борьбу, подвиг.
Марина Львовна Лихтенштадт могла бы назвать день и часы, когда она «переломила» свою беду. Это были часы, проведенные в заводском поселке на берегу Невы, в убогой комнатенке, где в косое окошко гляделся рассвет. О чем говорила ей пожилая, измученная жизнью женщина?
Она не утешала, понимая невозможность утешения. Рассказывала о семье, о заботах, о тревоге за старшего сына. Снова и снова возвращалась к горю своей нечаянной гостьи. Конечно, ничего посоветовать не могла. Только спрашивала:
— Ну, что поделаешь? Как пособить? Надо же что-то делать…
Весь путь до станции, потом в раскачивающемся вагоне Ириновской дороги и на шумных петербургских улицах Марина Львовна повторяла эти слова: «Надо, надо что-то делать!»
Она прекрасно понимала: в ее характере нет ничего героического. Она способна на будничный усидчивый труд переводчицы. Нет, она не героиня. Просто мать.
Много ли под силу материнскому сердцу в этом жестоком мире? Много! Бесконечно много! Тогда еще Марина Львовна не знала этого.
Все последующие недели и месяцы она была занята одним делом. Разыскивала таких же, как она сама, обездоленных: матерей, жен, сестер узников Шлиссельбургской крепости. Они откликнулись в само́м Петербурге, в Молдавии, в Варшаве, в Витебске. Связи устанавливались письмами, через вторые и третьи знакомства. Тут-то и нашлись нити, которые привели ее к важным решениям.
В столице возникла организация, которую называли Группой помощи политическим заключенным Шлиссельбургской крепости. Позже у нее появилось и второе название, менее употребительное: Подпольный красный крест.
Создана она была небольшим кружком петербургских женщин и ставила своей целью — помощь революционерам в неволе.
Марина Львовна возглавила эту группу не колеблясь. С тех пор как у нее отняли сына, она впервые испытала чувство радости.
Работа представлялась не такой уж трудной: нужно собирать деньги и продукты для пересылки в крепость.
Марина Львовна начала с того, что отдала этому делу весь свой заработок переводчицы. Самой ей немного надо. К скудным грошам она добавила материнскую любовь, горячее сердце. Отныне крестовая работа без