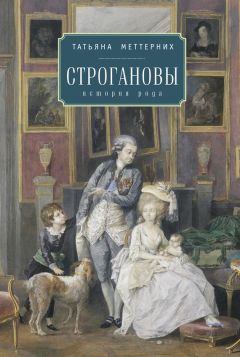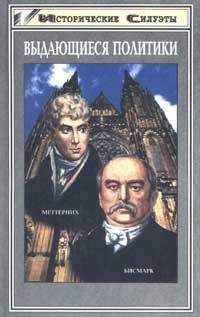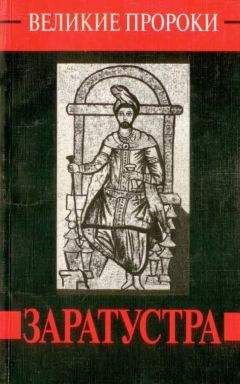что заскрипели шины, они поехали сдавать свой груз, как мешок, в советскую комендатуру.
Наступила снова одна из ледяных, морозных «военных» зим – мы встречали её без зимней одежды. Петер Хабиг, шеф известной фирмы, предложил мне сшить такие же костюм и пальто, какие он сделал мне два года назад и которые, как и многое другое, было безвозвратно утеряно, исчезло; на примерки я должна была ездить к нему в мастерскую, находившуюся глубоко в советской зоне. Однажды вечером два советских офицера вошли в примерочную, где встали между мной и зеркалом, примеряя фетровые шляпы, которые буквально трещали по швам, не подходя им по размеру, и выглядели, как расплывшиеся блины. Портной и я отшатнулись, но у них не было злых намерений.
Рано наступила ночь, я не заметила, как стало уже поздно; когда я спускалась по тускло освещенной лестнице, трое советских солдат прошли мимо меня, поднимаясь наверх.
Однозначные замечания по-русски не оставляли никакого сомнения в их намерениях; они развернулись, и их шаги, громко отдаваясь, были направлены ко мне. Но я бросилась на улицу, прежде чем они дошли до двери.
Мы стали после этого осторожнее, особенно во время «советского» месяца в первом районе. Однако однажды ночью нам пришлось бежать, как гонимым животным во время охоты. «Давай! Давай!» – крик грабежа раздался вдруг в пустынных улицах, когда мы шли поздно ночью по Августинерштрассе. Павел ухватил меня за локоть, и мы побежали, спасая нашу жизнь или по меньшей мере наши пальто!
С громкими криками советские солдаты выскочили из своего укрытия за памятником на Иозефплац, где они ждали подходящей жертвы. Они размахивали автоматами и, тяжело ступая, бежали за нами через тёмную арку. Мы бежали дальше, через Михаэлерплац, на Херренгассе. Старый швейцар ждал нас. Когда он услышал крики и эхом отдающийся топот бегущих ног по безлюдному, словно парализованному городу, он сразу же открыл ворота. Мы нырнули во двор и все трое, задыхаясь, навалились на дверь. Тяжёлый засов уже упал и закрепился на своём месте, когда несколько секунд спустя наши преследователи принялись колотить по воротам.
Днём же на каждом шагу попадались русские солдаты, и никто их не боялся.
Однажды утром, когда мы вышли из дому, нас встретил ледяной ветер: казалось, он дул нам в лицо прямо из Сибири; термометр показывал десять градусов ниже нуля. Перед входной дверью стоял открытый грузовик. Он был доверху нагружен телефонными аппаратами, оборванные провода торчали как редкие, растрепанные волосы. На этой впечатляющей куче лежал и храпел молодой русский солдат. Широко открыт рот, краснощекий, под надвинутой на один глаз шапкой, совершенно невосприимчивый к холоду, он уютно спал, раскинув ноги, как на пуховой перине.
Вена, бывшая столица империи, находилась сейчас в вызывающем жалость состоянии: разграбленные дома, разрушенная кровля, облупившаяся краска, разбитые, заделанные картоном проёмы окон, магазины с вдребезги разлетевшимися стеклами витрин, сломанные водопроводные трубы, согнутые решётки, криво свисающие между зияющими дырами и кучами щебня. Не было ни одного-единственного здания, которое не требовало бы срочного ремонта. Можно было ещё прочитать некоторые как редкие, так и удивительно меткие фамилии и названия, составленные из частично стёртых букв над некоторыми дверями: «Зубной врач Плач», «Ломбард Праздник чести», «Прачечная Габсбург», – предприятия, которые вскоре могли надежно процветать. Высокая крыша выгоревшего в результате бомбежки собора Св. Стефана рухнула. Теперь продавали почтовые открытки, на которых была изображена многоцветная мозаика соборной крыши из цветного кирпича; каждый кирпич был снабжён номером. За скромный взнос платили за «свой», пронумерованный, кирпич – целесообразная, удовлетворяющая всех мера. Венцы не могли смириться с разрушением собора. Когда однажды пилот союзников спросил, как ему пройти туда, он получил резкий ответ: «Если вы с воздуха без посторонней помощи смогли найти собор, то сами найдёте его и пешком».
Несмотря на наши усилия, нам так и не удалось прийти на помощь некоторым беспричинно задержанным друзьям, как, например, брату Стефани, который был задержан в американском лагере. Невозможно было установить, кто был ответствен за это печальное недоразумение. Прежде всего его знание средиземноморских языков вызывало подозрение, как будто бы эти знания объяснялись лишь специальным образованием для шпионов. Прошло ещё много месяцев, прежде чем его выпустили на волю.
При всех этих неприятностях завял даже столь непоколебимый юмор Вильчеков; они рассказали охотно о психиатре, столкнувшемся с неизлечимым случаем упадка духа. «Идите в цирк, – посоветовал психиатр своему пациенту, – клоун Маттей – единственный, кто может вас развеселить!» Бедный пациент мрачно возразил: «Для меня нет спасенья, я и есть клоун Маттей!».
Когда Вильчеки, измученные, возвращались после какого-нибудь напрасного дела, один из них бормотал про себя: «Для меня нет спасенья…».
Павел надеялся, что сможет поступить на австрийскую дипломатическую службу. Сначала это намерение было поддержано со всех сторон. Вскоре, однако, обнаружилось, что время не благоприятствует этому: для Меттерниха власти оккупированной Советами страны не имели места. Мы пустились тогда в бесконечные поиски ходов, чтобы получить необходимый документ для поездок и визу, заверенную каждой оккупационной властью. Так как паспортов ещё не было, то из наших австрийских удостоверений личности мы просто вычеркнули предложение «не для заграничных поездок» и добавили несколько чистых страниц. Это вскоре являлось уже впечатляющим и внушающим уважение документом со множеством печатей: после восьми военных лет, в том числе двух в Испании, никакое препятствие не могло удержать Павла от поездок.
Сначала, однако, мы пробирались сквозь болота препятствий.
Среди всех бед, от которых страдают люди, «анкеты» относятся к самым обременительным. Английское воспитание научило нас рассматривать любой касающийся личной жизни вопрос как невыносимую назойливость, но такие взгляды относились, казалось, к другому миру.
Любопытно-испытующие вопросы пытались высветить каждый уголок личной жизни. Это началось уже при наци; при власти союзников эта мания достигла размаха лавины. Список сверлящих вопросов, как дождь, обрушивался на каждого: имел ли ты белокурые или каштановые волосы, путешествовал или нет. И «как долго», и «где», и «почему» вы задерживались там-то и там-то в течение двадцати последних лет, «с точным указанием места жительства»! «Я путешествовал из любопытства, для своего удовольствия». Нет, этого им было бы недостаточно. Такие понятия были роскошью. Как можно было объяснить в одной строчке анкетного вопроса, почему ты имел пять гражданств и, возможно, пять паспортов, но ни одного свидетельства о рождении? Как можно было ответить на эти вопросы в этой разрушенной, опустошённой Европе, в которой волны беженцев вымывались из одной страны в другую? Нужно было извиниться за то, что вообще ещё существуешь, и прежде всего за то, что остался