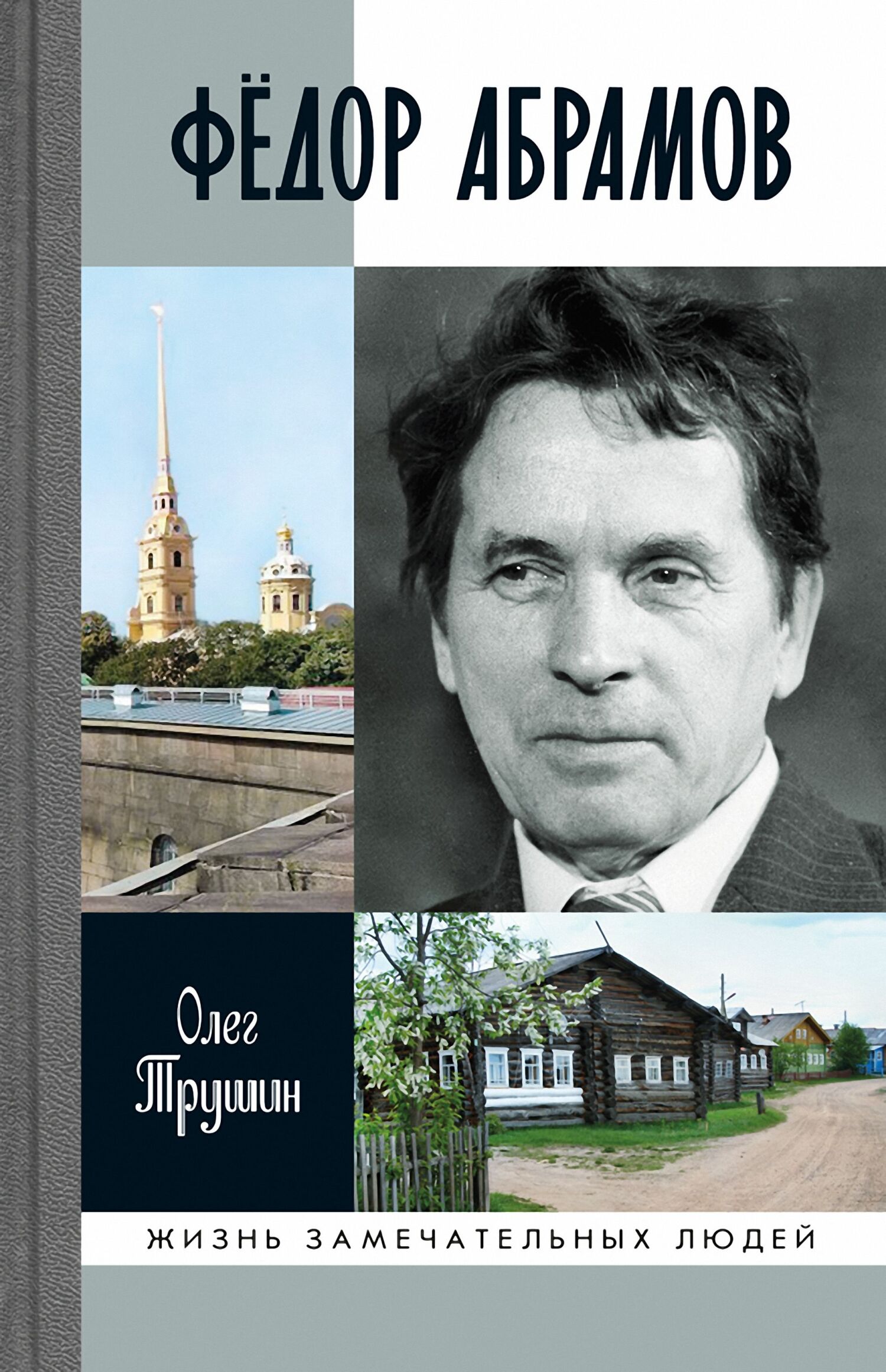с детства верил в чудодейственность молитвенного слова и в это трудное для себя время вновь искал в нём защиту. Свою веру в Создателя он глубоко хранил и никогда ни перед кем не оголял. И начиная «Чистую книгу» – произведение, в корне отличавшееся от всего ранее им написанного, Фёдор Абрамов просил защиты не столько для самого себя, сколько тому, что жило в его сердце, – произведению, к которому шёл всю свою жизнь.
И он всё же сумеет, превозмогая свалившиеся на него хвори, создать 18 глав первой части «Чистой книги», при этом оставив, как заклинание, как шифр для будущих поколений, многочисленные листы черновиков, заполненные почти нечитаемым почерком, в которых будут жить его мысли и чаяния о России и прочесть которые ещё предстоит.
Он многое успел за свою последнюю комаровскую зиму: подготовить «Траву-мураву», запланированную к изданию в «Современнике», поучаствовать в подготовке сборника прозы «Острова» и даже выправить гранки нового издания своей знаменитой на весь мир тетралогии в Гослите…
А в начале марта пришло ещё и радостное сообщение, что в Лейпцигском издательстве, в выпускаемой серии книг мировой эстетики, запланировано издание сборника рассказов Фёдора Абрамова.
7 апреля Фёдор Абрамов вместе с Фёдором Мельниковым приедет в Новый Петергоф по приглашению Елены Григорьевны Михайловой, давненько зазывавшей писателя в гости. Возможно, для Абрамова эта поездка была не только желанием повстречаться с новым для него человеком и послушать обещанные истории-были, но и ещё раз навестить те места, где летом и осенью 1941 года едва не оборвалась его жизнь.
Эта однодневная поездка в Новый Петергоф подарит жизнь последним трём рассказам: «Есть, есть такое лекарство», «Стёпка», «Потомок Джима». Они появятся в печати уже после кончины Фёдора Абрамова – «Потомок Джима» в газете «Правда» от 17 декабря 1983 года, а все три рассказа в журнале «Север» (№ 10 за 1984 год), и, по выражению Людмилы Крутиковой-Абрамовой, станут «прощальной трилогией», в которой будут «опоэтизированы… лучшие человеческие качества – любовь ко всему живому, доброта, сострадание, милосердие, совесть, бескорыстие, терпение и удивительное родство, соучастие человека с природным миром».
Подходило время запланированной недельной поездки в Испанию.
Но вот беда, ещё перед самым отъездом в Москву, 19 апреля, Фёдор Абрамов почувствовал себя плохо: боли в правом подреберье, температура, но откладывать поездку всё же не решился. Подозрение на желчный пузырь, с которым были проблемы и раньше. Ещё в мае 1979 года Абрамов писал из санатория в Карловых Варах Михаилу Щербакову, что поездка эта вынужденная, потому что у него «неладно с желчным пузырём и почки больные».
Вот и на этот раз, хотя состояние было скверным, искренне надеялся, что обойдётся. Не обошлось. Скорое возвращение в Ленинград обернулось больничной койкой в уже знакомом Институте пульмонологии. Вызванные в гостиницу «Москва», где он остановился, столичные врачи настаивали на срочной госпитализации. Отказался.
Игорь Золотусский в книге «Фёдор Абрамов» так вспоминает о состоянии Фёдора Александровича в эти дни: «21 апреля я был у Абрамова в гостинице “Москва”. Мы говорили час. Он собирался лететь в Испанию в туристическую поездку, но температура уложила его в постель. Был тёплый, не по сезону тёплый апрельский вечер. Абрамов лежал в огромном номере на большой кровати, на голове у него было полотенце. Несмотря на жар и на его плохое состояние, он выглядел, как всегда, молодо. В его тёмных волосах ни сединки, глаза живые, лицо смуглое, как будто загорелое. От духоты, которая его мучила, он сбросил с себя одеяло, и я увидел его загорелые, крепкие, молодые ноги. Он был ещё молод, крепко сбит, мускулист, упруг, и я сказал ему об этом. Он слабо усмехнулся…» {49}
23 апреля по настоянию Людмилы Фёдор Абрамов вернулся в Ленинград. Племянница Галина, встречавшая его с поезда на Московском вокзале, так рассказывает о последних днях писателя:
«Фёдор Александрович был весь жёлтый. Меня увидел и сразу говорит: “Не подходи ко мне, ты ведь с детьми работаешь”. А потом как бы и в шутку: “Вот давай посмотрим ладошки. Дай свою (приставил свою рядом), посмотри, какая у меня жёлтая”. Видно было, что он очень сильно расстроен случившимся.
Приехали на Мичуринскую. Немного посидели. Помощница по хозяйству Валерия Никитична по-быстрому собрала на стол. К вечеру Фёдор Александрович уже был госпитализирован в Институт пульмонологии на срочное обследование.
В последующие дни, когда я приходила к нему, мы ходили гулять. Дело шло к маю, было тепло, и на газонах уже зеленела молодая травка. И он, глядя на молодую зелень, радуясь, с грустью очень часто повторял, что неужели не придётся в этот год ехать в Верколу, неужто придётся опять делать операцию.
Когда не получалось погулять по улице, мы просто выходили в коридор. В эти дни много кто к нему приходил. Старались навестить, поддержать.
Людмила была вместе с ним. Для неё в палату специально поставили кровать.
Врачи настаивали на операции, и провели бы её до 9 мая, но ещё не были готовы результаты анализов, да и Фёдор Александрович, словно предчувствуя что-то, не соглашался. “Дайте мне хоть День Победы отметить”, – говорил он врачам.
Нахождение дома, куда его отпустили всего лишь на два дня, не придало покоя ни душе, ни спокойствия сердцу. Предчувствие неблагоприятного исхода операции глубоко засело в нём.
В последний день, перед тем как уже лечь в больницу на операцию, мы с ним долго гуляли по скверу Троицкой площади, что недалеко от дома на Мичуринской. Потом сели на 40-й трамвай и поехали в институт. Он чувствовал, что силы покидают его, но на моё предложение вызвать такси отказался. “Нет, я хочу с народом!” – ответил он мне.
Я проводила его до палаты.
В предпоследний день перед операцией (или даже накануне) я зашла к нему, и мы пошли гулять на улицу. И когда стали спускаться по лестнице вниз, Фёдор Александрович как-то заторопился и очень быстро побежал. А я ему вослед: “Дядя Федя, да вы что? Разве можно?! Вам же трудно, тяжело”. А он мне в ответ, указывая рукой вверх, говорит: “Туда уходить тяжелее, но, значит, придётся”. Видно, чувствовал неизбежное. Не было у него веры в то, что жить будет.
Последний раз я его видела в день перед роковой операцией – 12 мая. В палате он лежал один, под капельницей, весь жёлтый, а в руках книжка и карандаш.
Увидел меня и говорит: “А ты зачем пришла? Ты не работаешь?”
А я ему в ответ: “Давай хоть пол помою”. Людмилы Владимировны не было, она ушла на квартиру и ещё по каким-то делам.
Я убралась. При мне у него сняли капельницу. Сидим, разговариваем. Стал интересоваться, как у меня дела на