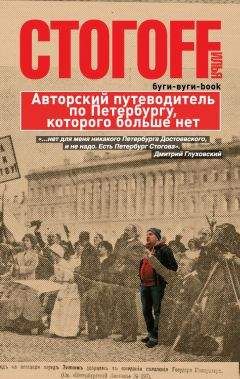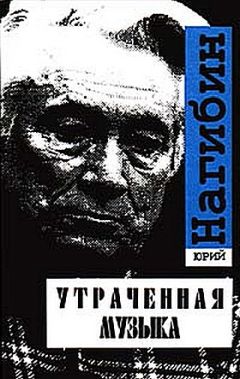И еще он сказал:
И не ограблен я и не надломлен,
Но только что всего переогромлен —
Как Слово о полку, струна моя туга,
И в голосе моем после удушья
Звучит земля — последнее оружье —
Сухая влажность черноземных га.
Существует представление, что Мандельштам проделал обратный пастернаковскому поэтический путь: тот шел от сложности и крайней субъективности ранней лирики «Сестры моей — жизни» и «Поверх барьеров» к великой простоте стихов о войне и последнего цикла: «Гамлет», «Быть знаменитым», «Я кончился» и т. д., а Мандельштам — от эллинской ясности и чистоты «Камня» через более сложную «Tristia» к воспаленному бормоту воронежских страстей. Должен сразу оговориться, чтоб не хватали за руку, у раннего Мандельштама есть стихи не столь общедоступные, скажем, «Silentium» или «Еще далеко возраст асфоделий», а в воронежском навороте встречаются такие прозрачные, как «Щегол» или «Стрижка детей». Но замечательно сказал сам Мандельштам в одном из стихотворений, посвященных Андрею Белому: «Может быть, простота — уязвимая смертью болезнь». Есть и русская поговорка о том, что простота хуже воровства. Это к тому, что простота в литературе не может быть самоцелью, есть лишь одна цель — полнее, окончательней высказаться. И по мере сил лаконично, ибо каждое лишнее слово уменьшает энергию мысли и чувства. Но лаконизм не обязательно означает малословие. Марсель Пруст со своими огромными периодами лаконичен, ибо у него нет лишних слов, а только необходимые для его целей. Б. Пастернак в молодости так намаялся с самим собой, мирозданием и безвыборной необходимостью вбить маету своей жизни в стихи, что в старости просто не мог не прийти к более простой модели мироздания и своего пребывания в нем. Эта новая модель естественно выражалась в более простых словосочетаниях. Я не знаю, лучше ли этот новый Пастернак того, что «заумен». Да нет, каждый по-своему хорош, но в молодом было больше стихии, свежести. Я не берусь утверждать, что воронежский Мандельштам — темный, таинственный, часто зашифрованный почти до непрочтения — лучше молодого, ясного, как день. Но я категорически не согласен с теми зарубежными последователями его творчества, что видят в этих стихах упадок. Какой там! От соприкосновения с простой и вечной материей чернозема он стал человечески глубже и мудрее. И не захотел остаться на периферии этого нового Мандельштама, а вонзил поэтическую лопату в глубь себя, как в черноземную силу земли, и пошел выворачивать невиданные пласты.
Такой поэтической мощи, такой окончательности самовыражения не знала поэзия нашего века. Никто не доходил до подобного обнажения боли, являющегося одновременно и ее преодолением. И это потребовало иного языка, какого не было на слуху людей. Им надо овладеть, чтобы читать «в подлиннике» воронежского Мандельштама. И тогда он станет понятен, как зашифрованная депеша, если к ней подобран ключ. Для этого надо знать обстоятельства его жизни — и внешней и внутренней, знать, что он рано открыл для себя европейскую культуру с ее колыбелью — Средиземноморьем, но это тонкое знание стало истинной силой, лишь опершись о черные плечи земли, войти в круг его образов и, конечно же, располагать свободным душевным временем, отдав его любви к поэту. Тогда окажется, что он очень конкретен, прочнейше связан с действительностью, его пространством и временем, что нет тут и тени произвола, все выверено совершенной зрелостью, безошибочным чувством внутренней правоты, и все очень… я чуть было не сказал «просто», ибо въелось под кожу представление о простоте как о главном литературном достоинстве. Попробуем все же обойтись без этой пресловутой простоты. Нет, не просто, а сложно, глубоко, порой неоднозначно и отнюдь не высветлено до последнего закоулка, но почти все приживается к ткани твоей души, становится ее болью и силой, ее незнаемым прежде опытом, ее боговым, уносящим горе. А если и остается что-то неразгаданное, то это не беда, это хорошо, ибо душа продолжает работать, когда глаза твои уже оторвались от огненных письмен.
Почему тогда прямо не сказать, что воронежские стихи — вершина Мандельштама? Ну, хотя бы потому, что я не могу пожертвовать совершенством «Царского села», «Золотого», «Лютеранина», «Петербургских строф», «Золотистого меда струя из бутылки текла», «Декабриста», «Чуть мерцает призрачная сцена», «В Петербурге мы сойдемся снова», я уже не говорю о более поздних: «Нет, никогда ничей я не был современник», «Ленинград», «С миром державным», «За гремучую доблесть грядущих веков», «Я скажу тебе с последней простотой», но, кажется, я перечислю все стихи Мандельштама. Да так и надо бы сделать, ибо у Мандельштама не было стихов хуже и лучше, как у всех поэтов, он сразу стал равен себе высшему. И нужна была странная, туманящая взор поэтическая спесь Блока, не пожелавшего, кстати, угадать масштаб Анненского по его первому сборнику «Тихие песни», чтобы так долго выдерживать Мандельштама на холоду поэтической прихожей, а затем признать сквозь зубы.
У великих поэтов всегда есть стихотворение, до того простое, не принаряженное, прямое и щемящее, что аж дух перехватывает, и не понять, чем же оно тебя так забрало? У Пушкина — «Пора, мой друг, пора», Лермонтову понадобилось партнерство Гёте, чтобы прошептать «Горные вершины», у Блока это, наверное, «Девочка пела в церковном хоре», сложный Мандельштам создал нечто бесхитростное, как вздох, и таинственное, как сама поэзия. Четыре строчки, вроде бы лишенные всякого содержания, вовсе никакие, а прочтешь, повторишь про себя, и «к груди прикипает слеза».
Рассеян утренник тяжелый,
На босу ногу день пришел,
А на дворе военной школы
Играют мальчики в футбол.
Почему это так трогает? Чудесно, свежо звучит, что «день пришел на босу ногу», такой вот неодетый весенний денек, что явился — и сразу растопил присол ночного морозца, кроющий сединой прошлогодние жухлые травы. Пока иней держится, тяжело гонять футбольный мяч по полю — вязко. Играют будущие офицеры, юноши, названные мальчиками; в этом слове свежесть, румянец, безвинность перед миром, а в контексте стихотворения — грусть, потому что они — жатва будущей войны. С этого двора, влажного от растаявшего инея, с этой футбольной разминки-закалки начинается путь в смерть.
При желании тут можно еще что-то вычитать, четыре строчки на редкость богаты информацией, волнует лад созвучных, легко переставляемых строк, создающих ощущение замкнутого пространства (двора), грозно разрываемого точками, заменяющими продолжение. Я произнес куда больше слов, чем потрачено поэтом на это стихотворение, но разве добавил к нему хоть самую малость, разве объяснил его очарование? Да нет, тайна так и осталась за семью замками. Аладдин может сколько угодно тереть свою старую лампу и талдычить «Сезам, откройся!», поэтическая пещера заклинаниям не поддается, и что ей волшебная лампа? Она готова одарить вас своими сокровищами просто так, но внутрь не пустит, если вы не Поэт.