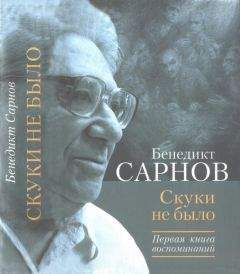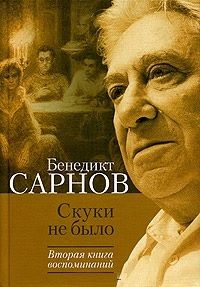Но на всем протяжении тех трех часов, что мы провели с ним вместе в той безнадежной очереди, мы твердили друг другу одно и то же: что раньше не понимали, какая это огромная фигура — Сталин, что только нам, жившим при нем и взрослыми людьми пережившим его смерть, дано это по-настоящему осознать и почувствовать. Что те, кто моложе нас, нынешние мальчишки и девчонки, никогда этого не поймут и не оценят…
Легко, конечно, заподозрить тут нас обоих в неполной искренности. Да и что говорить: обстоятельства места и времени к полной искренности тогда не больно располагали. Но тем не менее — ручаюсь (по крайней мере — за себя), что все это мы изливали друг другу искренне. Уж что там стояло за этой искренностью — это другой вопрос. Но мы были искренни. К тому же никто за язык нас не тянул: могли ведь и отделаться многозначительным молчанием. Но нас — как прорвало. И мы все продолжали и продолжали обрушивать друг на друга эти восторженные, коленопреклоненные словоизлияния.
В одной из глав этой книги я приводил небольшой отрывок из письма Татьяны Максимовны Литвиновой Эмме Григорьевне Герштейн.
Вспоминая о том, как она «единственный раз слышала и видела Сталина, выступавшего на съезде (1936?) по поводу конституции», Татьяна Максимовна пишет:
Я его обожала! Власть — всевластность — желание броситься под колесницу Джаггернаута. Отец, Бог — полюби меня!
Я при жизни Сталина ни разу ничего подобного не почувствовал. И дело, думаю, тут не только в том, что, в отличие от Татьяны Максимовны, ни разу не видел его живьем. (Хотя, наверно, и в этом тоже.)
А тут, в этой неподвижной молчаливой очереди, это рабское чувство меня вдруг настигло. Словно уходя, он напоследок дал мне понять, что не остаться мне не затронутым этим массовым психозом, не уйти, никуда не деться от этой его безграничной власти над нашими душами.
Я уже рассказывал о том — к счастью, недолгом — периоде своей жизни, когда был влюблен в Сталина. Но даже в пике этой моей влюбленности Сталин оставался для меня человеком. Значительным, обаятельным, очаровательным даже, но — человеком. Я ясно видел все его слабости. Помню, в какой-то кинохронике Сталин на трибуне произносил свою знаменитую предвыборную речь и объяснял, каким должен быть кандидат в депутаты.
«Он должен быть…» — повторял он по всегдашней своей манере одну и ту же формулу несколько раз, нанизывая на нее, как на шампур, все новые и новые определения. И вот, повторив ее в третий или в четвертый раз, вдруг остановился, подыскивая нужные слова. Но так и не найдя, после маленькой заминки закончил: — «на высоте своих задач».
По лицу его было видно, что он и сам недоволен этим безликим и, по правде говоря, даже бессмысленным определением. Он вроде как-то даже поморщился. И это отразившееся на его лице недовольство собою меня умилило.
Над тем Сталиным, в которого я был влюблен, можно было добродушно подтрунивать, даже смеяться.
Помню рассказ нашего соседа Ивана Ивановича о том, как на каком-то съезде, когда Сталин, выступая с отчетным докладом, сказал, что собирается затронуть некоторые вопросы теории, из зала прозвучала насмешливая реплика старого большевика Давида Борисовича Рязанова:
— Коба! Вы — и теория? Не смешите нас!
Я прекрасно отдавал себе отчет в том, что на самом деле Сталин никакой не теоретик и уж во всяком случае не классик марксистско-ленинского учения, каким его объявили. Понимал, что его усатый профиль рядом с медальными профилями великих бородачей Маркса и Энгельса и даже более простецкого, свойского Ленина с его сократовским лбом выглядит, выражаясь известной репликой из анекдота, как «гвоздь не от той стенки». При всей моей влюбленности в Сталина, я не сомневался, что классиком марксизма-ленинизма и корифеем всех наук его назначили не за подлинные его заслуги, а, так сказать, по должности.
Все это, как я уже сказал, не мешало моей влюбленности в Сталина, не разрушало ее. Но при всей этой моей влюбленности Сталин оставался для меня человеком, а не богом.
А тут — в этом долгом нашем разговоре с Колей Войткевичем — Сталин уже всерьез представлялся нам и корифеем науки, и классиком марксизма, по праву ставшим вровень с Марксом, Энгельсом и Лениным. Все эти привычные слова и обороты («Корифей науки», «Гениальный полководец», «Величайший гений всех времен и народов»), над которыми еще недавно мы тайком хихикали, теперь воспринимались нами всерьез, без тени иронии. Какая ирония! Только священный трепет и благоговение.
Римский император, как известно, умирая, становился богом. Вот так же и Сталин, завершив свой земной путь и вот теперь на наших глазах уходя в Историю, стал для нас с Колей (для меня — ненадолго, да и для него, думаю, тоже не навсегда) тем богом, каким при жизни своей он никогда для нас не был.
А на следующий день мы всем семейством слушали по радио траурные речи, произносившиеся у Мавзолея соратниками вождя и наследниками его власти.
С нами сидела и слушала те речи и наша соседка Раиса Александровна (Масюточка).
Вроде бы никчемушное упоминание о ней тут не случайно, потому что именно с ее реакцией связано одно из самых ярких тогдашних моих впечатлений.
Когда после Маленкова, выступившего первым, слово было предоставлено Лаврентию Павловичу Берия и он произнес первые свои слова: «Дарагие товарищи! Друзья!» — Масюточка вдруг захлюпала носом.
— Что это вы? — удивился отец.
— Акцент! — прорыдала она. — ЕГО акцент!.. Не могу слышать… Сердце разрывается…
Спустя несколько минут она успокоилась, а к концу бериевской речи совсем приободрилась и даже сказала, что грузинский акцент Лаврентия Павловича внес в ее сердце надежду. По ее мнению, этот акцент как бы давал нам понять, что со смертью Сталина не все потеряно, что ЕГО дело — в надежных руках.
Что говорить, Масюточка была гораздо глупее своего бывшего мужа, и я, грешным делом, даже подумал тогда, что Осип Исаакович, видать, покинул ее не только потому, что его новая пассия была помоложе и попригляднее: кто знает, может быть, она была к тому же и не такая набитая дура, как эта его Масюточка.
Но тут надо сказать, что и сам я в тогдашних своих мыслях и ощущениях не так уж далеко ушел от этой нашей соседки.
Прочитав 7 марта о новом распределении ролей в руководстве страны и узнав, что Председателем Президиума Верховного Совета СССР стал Ворошилов, я почувствовал то же облегчение, какое нашей соседке Раисе Александровне внушил грузинский акцент Лаврентия Павловича.
Я, в общем-то, понимал, что все эти перестановки не очень существенны и, во всяком случае, далеко не окончательны. Позже возникла на этот счет замечательная формула:
А вы, друзья, как ни садитесь, только нас не сажайте!
До такой ясности я тогда, конечно, еще не дорос. Но что высокий пост председателя Президиума Верховного Совета у нас — еще со времен «всесоюзного старосты» дедушки Калинина — чисто декоративный, это-то уж, во всяком случае, не было для меня тайной.
И все-таки, когда я узнал, что нашим «президентом» отныне будет «первый красный офицер» Клим Ворошилов, у меня слегка отлегло от сердца.
Видимо, сработало выскочившее из подкорки старое, еще с детства запомнившееся всенародное присловье:
Все нормально, все в порядке,
Ворошилов на лошадке.
Этот пример с особенной наглядностью подтверждает, что в основе всех моих тогдашних ощущений (как некогда в основе моей влюбленности в Сталина) лежал все тот же страх.
Впрочем, не совсем тот же. Другой.
На сей раз это был страх не перед НИМ, а перед будущим.
Каким оно окажется, это наше будущее без НЕГО?
Но это объяснение всего лишь дает представление о том, какая каша была тогда у меня в голове. Оно не помогает понять — не только понять, но даже передать — природу того ужаса, который накатил на меня и захватил все мое существо, который я ощутил всем телом, всеми своими потрохами — сердцем (оно побаливало), пищеводом (меня мутило, поташнивало), желудком, кишечником (да-да, желудок и кишечник тоже выдавали свою реакцию, это не метафора) при известии о смертельной болезни, а потом и смерти Сталина.
Никакие мои рассуждения не помогут понять природу этого ужаса, потому что этот мой ужас был иррационален.
7
Среди многочисленных сталинских высказываний, объявленных вершинами человеческой мудрости, одним из самых знаменитых было такое:
Эта штука посильнее «Фауста» Гёте. Любовь побеждает смерть.
Это Сталин сказал — даже не сказал, а собственноручно написал (11 октября 1931 года) — на титульном листе ранней и, по правде говоря, ничем не примечательной поэмы Горького «Девушка и смерть».
Поэма Горького немедленно была включена в школьные программы, и факсимильное воспроизведение сталинского отзыва красовалось в наших школьных учебниках. Слово «любовь» сталинской рукой было написано там без мягкого знака: «любов». В школе, где я учился, ходили слухи, что кто-то из озорников-старшеклассников нарочно сделал в этом слове такую же ошибку, а когда ему хотели снизить за это оценку, сослался на то, что «так у Сталина». И никто из учителей не посмел ему намекнуть, что, мол, квод лицет йови, нон лицет корове. Хорошо еще, что не внесли соответствующее изменение в орфографию, объявив, что отныне слово это надлежит писать именно так, как начертал его Сталин.