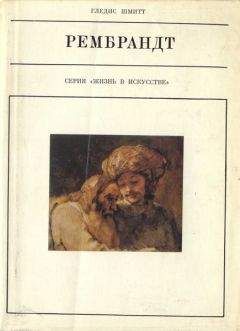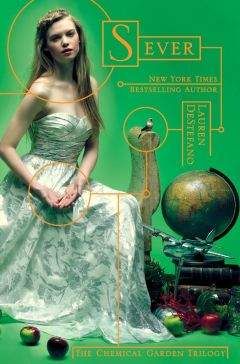Чтобы окончательно связать себя — Рембрандт знал, как он переменчив, — он сказал Арту, что намерен написать портрет семейства де Барриос. Он был бы рад ограничиться этим заявлением, но его ученик, все еще предававшийся восторгам по поводу картины, названной Рембрандтом «Руфь и Вооз», немедленно начал приставать к нему с расспросами о новом полотне, которое, без сомнения, окажется еще более блистательным.
— Расскажите мне, как вы представляете его себе, учитель, — взмолился он.
Дордрехтец глядел на художника такими ясными глазами из-под каштановых кудрей, его красивое и все еще безбородое лицо светилось таким жадным любопытством, что Рембрандт почувствовал редкий у него прилив красноречия и рассказал Арту не только о палитре, которую намерен использовать, но и о том, как разместит фигуры, чтобы все пять были связаны между собой чем-то вроде цепи прикосновений. На заднем плане не будет ничего, одна только трепетная, бесконечно разнообразная, необъятная тьма. Старшая девочка будет держать корзину с фруктами — где, кстати, корзина, присланная госпожой де Барриос? — Вторая будет улыбаться старшей сестре, а третья сидеть на коленях у матери, притрагиваясь рукой к ее груди. Во время работы он, естественно, кое-что изменит, но лишь в деталях. Общий же замысел ему совершенно ясен — он представляет его себе так же отчетливо, как если бы картина уже висела на стене в гостиной де Барриосов.
Красные, малиновые, медно-розовые, светло-золотые и холодные сине-зеленоватые тона, которыми, словно магическими заклинаниями, он вызвал фигуры к жизни, были красками осени и умирающего огня, а с заднего плана на них, вторгаясь в очертании фигур, наступала тень, углублявшая даже глаза младшей из девочек, словно та уже несла в своем существе мысль о темной стране, откуда она пришла и куда вернется, когда годы пронесутся над ней и лишат ее и желаний, и ближних, и врагов.
В страдальческом упоении работой над этими неземными и в то же время его детьми, да, да, несомненно, детьми его собственной души, подобно тому как Титус и Корнелия были детьми его плоти, Рембрандт почти позабыл, что у него тоже есть тело. Он ел только для того, чтобы не огорчать Корнелию и Ребекку; ложился в постель только потому, что Арт не шел спать, пока не ляжет учитель; редко мылся и совсем отвык снимать на ночь рабочую одежду. Даже с кистью он обращался теперь с той же великолепной беззаботностью, какую проявлял по отношению к себе. Ткань, жемчуга, подбитый мехом рукав, кусочек зеленого атласа на ящичке, носок маленького оранжевого башмачка — он не давал себе труда обдумывать и прорабатывать все эти детали. Краски то нагромождались у него густыми пластами, то растекались тонким слоем, мазки он клал в причудливом беспорядке, и тем не менее все, что он хотел выразить, полностью запечатлевалось на полотне.
— Мне очень хочется взглянуть на маленьких де Барриос, когда я понесу туда картину, — сказал Арт. — В самом ли деле они такие, как у вас?
— Вероятно, более или менее такие. Конечно, картина написана весьма свободно. Надеюсь, во всяком случае, что сумею придать больше сходства лицам господина и госпожи де Барриос.
И он придал им это сходство — по крайней мере на первых порах, пока еще лицо португальского поэта не начало таинственно и неуклонно изменяться под кистью художника, которую, казалось, ему уже не было больше нужды направлять, ибо она писала сама собой. Де Барриос в строгой черной одежде, без украшений, безмятежный и мудрый, занял место позади детей, словно заявляя права на это мерцающее потомство своей души. Преобразилась даже Абигайль: с нею слились те незабвенные образы, которые так неясно дали знать о себе в рисунках, разбросанных на ковре во время первого сеанса. Госпожа ван Хорн, Саския, Хендрикье касались зрителя ее рукой, чарующе улыбались ее губами, выгладывали из ее больших спокойных глаз.
После этого всякие разговоры о сходстве прекратились. Оно стало тем, о чем не полагалось упоминать, как не упоминали в доме о кашле Титуса и столкновениях самого художника с мебелью, и Арт де Гельдер больше не спрашивал, когда ему придется нести портрет в дом поэта. Правда, говоря о картине, Корнелия и Арт по-прежнему называли ее «Семейным портретом». Рембрандт не знал, усматривают ли они в полотне некое двусмысленное сходство; он знал только, что они произносят название картины совсем по-иному, чем раньше, словно он вызвал к жизни на этом холсте вечную мечту человека — такую семью, какой должна быть семья и какой мир никогда еще не видел.
В своей наивности они даже не подозревали, как много сказал художник этой картиной. Истинную цену ей знал только Титус, который наверняка не верил, что ему суждено увидеть плод, носимый в чреве Магдаленой. Теперь он приходил часто — вероятно, так часто, как ему позволяли силы. Едва успев поздороваться с домочадцами отца и протянуть им кончики пальцев — он ведь знал, какую заразу носит в себе, — молодой человек медленно, на каждом шагу останавливаясь и переводя дух, поднимался в мастерскую. Он считал заранее решенным, что «Руфь и Вооз» и «Семейный портрет» не пойдут в продажу.
— Боюсь, что не смогу расстаться с ними, даже если ты сам решишься на это, отец, — говорил он.
И больше он ничего не сказал до того не по сезону теплого и туманного вечера, когда он извинился, ушел на задний дворик и, пробыв там дольше обычного, вернулся с совершенно бескровным лицом.
— Садись, — сказал отец, который в продолжение всей этой долгой агонии скреб свою небритую щеку и похрустывал пальцами. — Я сейчас велю Ребекке дать тебе чего-нибудь — горячего чая или вина.
— Нет, пока не надо. Если можно, позднее, отец. — Голос у Титуса превратился в хриплый шепот, но в нем еще чувствовалась прежняя учтивость. — Скажу тебе, однако, чего мне хочется. Я хотел бы подняться в мастерскую.
Они пошли. Старик нес лампу, освещая дорогу и притворяясь более утомленным, чем был на самом деле, чтобы почаще останавливаться и давать передышку обреченному сыну, который следовал за ним. На половине лестницы художник заметил, что ему что-то мешает. Отстегнулась одна из подвязок, чулок спустился до щиколотки, и Рембрандт понял, как он стал неряшлив, как измята, запачкана и пропитана потом его одежда.
— Помилуй бог! Я уже забыл, когда в последний раз принимал ванну, — сказал он, входя в темную мастерскую.
Обе картины стояли рядом на отдельных мольбертах, и Титус, взяв у отца лампу, поставил ее между ними так, что полотна, внезапно озаренные светом, заискрились и засверкали. Но глаза молодого человека, огромные и полные слез, вызванных болью и напряжением, не сразу устремились к неземному сиянию. Он посмотрел на отца, затем подошел к нему вплотную и опустился на колени.