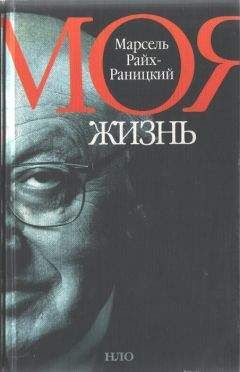И другие мои предложения вызвали у асессора недоверие. О Лессинге он не хотел и слышать (прежде всего из-за «Натана»), Геббель ему тоже не годился, так как драмы на иудейско-библейские сюжеты («Юдифь» и «Ирод и Мариамна») считались «неподходящими», о «Еврейке из Толедо» Грильпарцера также не могло быть и речи. После долгих колебаний учитель согласился с темой, посвященной творчеству молодого Герхарта Гауптмана. Непосредственно перед экзаменом раздавали листки с вопросом, по которому следовало сделать доклад. Затем предоставлялось полчаса, чтобы в закрытой комнате подготовиться к выступлению. На моем листке был написан тезис Арно Хольца: «“Искусству свойственна тенденция снова стать природой. Оно и станет ею в зависимости от своих условий воспроизводства и обращения с ними”. Выведите отсюда определение сущности натурализма». Как видно, гимназия имени Фихте предъявляла своим выпускникам весьма высокие требования, но учителю немецкого задача, поставленная передо мной, показалась слишком абстрактной, так что он дописал от руки: «Г. Гауптман как представитель натурализма (“Перед восходом солнца”, “Одинокие”, “Ткачи”)».
Этот листок не ошеломил и не испугал меня. Но, едва я успел сказать несколько вводных предложений, меня энергично прервал наш директор, «золотой фазан» Хайнигер, временно возглавлявший экзаменационную комиссию. Он хотел узнать об отношении национал-социализма к Гауптману. К этому вопросу я не был готов.
Я мог бы указать на то, что в связи с отмечавшимся лишь несколько месяцев назад семидесятипятилетним юбилеем Гауптмана его пьесы широко ставились во всем рейхе — во всех государственных и многих других театрах.
Можно было бы процитировать и высокопоставленных лиц Третьего рейха, из высказываний которых явствовало, что, желая числить Гауптмана на своей стороне, ему время от времени льстили. Но все это я не сказал — потому ли, что такое не сразу пришло мне в голову, или потому, что боялся вызвать подобными ответами раздражение временного председателя экзаменационной комиссии. Вместо этого я коротко сказал: в Третьем рейхе особенно ценят то обстоятельство, что Гауптман поставил в центр своего творчества социальный вопрос. После этого меня не захотели слушать, отпустив со словами благодарности, звучавшими, впрочем, недружественно. Счел ли «золотой фазан» мои слова иронией?
В аттестате зрелости оценка по немецкому была не «отлично», которую я получал по окончании всех прошедших лет, а лишь «хорошо». Позже германист д-р Бек доверительно сообщил мне, что председатель экзаменационной комиссии не допустил дискуссии о моей успеваемости, заявив, что по причинам, которые не имеют ничего общего с обучением, оценка «очень хорошо» за немецкий данному ученику (это должно было означать — еврею) неуместна.
Со стыдом признаюсь, что я был разочарован и действительно озлоблен. Решение «золотого фазана» оказалось мелочной придиркой, но моя реакция на него — смехотворной. Было ли все это пустяком? Да, но весьма поучительным. Он позволяет понять, что я еще и после экзамена на аттестат зрелости тайком надеялся на возможность подготовиться к профессии, которая, по крайней мере, имеет какое-то отношение к литературе.
Я никогда не читал так много, как в гимназические годы. В каждом районе Берлина была городская библиотека с хорошим выбором книг. Тот, кто интересовался литературой, мог найти там все, что хотел, в том числе и новейшие книги современных авторов. Правда, не разрешалось брать более двух книг одновременно. Этого мне не хватало, но трудность легко преодолевалась. Я записался в две городские библиотеки — в Шёнеберге и Вильмерсдорфе.
Хорошо помню, что я знал из мировой литературы к осени 1938 года, когда меня депортировали из Германии. Сегодня я не смогу объяснить, как сумел за пять-шесть лет прочитать все драмы Шиллера и большинство пьес Шекспира, почти все произведения Клейста и Бюхнера, все новеллы Готфрида Келлера и Теодора Шторма, некоторые из великих и большей частью обширных романов Толстого и Достоевского, Бальзака, Стендаля и Флобера. Я прочитал скандинавских писателей, по крайней мере Йенса Петера Якобсена и Кнута Гамсуна, всего Эдгара По, которым восхищался, и всего Оскара Уайльда, который привел меня в восторг, а также многие произведения Мопассана, забавлявшие и возбуждавшие меня.
Вероятно, такое чтение часто оказывалось поверхностным, и, конечно, я многого не понимал. Тем не менее как оно вообще оказалось возможным? Может быть, я знал метод особенно быстрого чтения? Нет, и до сих пор не знаю. Напротив, как тогда, так и теперь я почти всегда читал и читаю медленно. Если текст мне нравится, если он действительно хорош, я наслаждаюсь каждой фразой, а это требует много времени. Если же текст мне не нравится, начинаю скучать, не могу как следует сконцентрироваться и вдруг замечаю, что едва понял целую страницу и приходится читать ее еще раз. Так что независимо от того, хорош текст или плох, читаю я очень медленно.
Были, правда, и другие обстоятельства, позволившие мне столько прочитать в школьные годы. Мне удавалось читать часами потому, что со школьными заданиями я справлялся очень быстро, уделяя им ровно столько времени, сколько было абсолютно необходимо для того, чтобы получить оценку «удовлетворительно». Вот поэтому и оказались заброшенными естественные науки и, к сожалению, иностранные языки. Спорт не требовал много времени, что, конечно же, было неправильно. Я не посещал и школу танцев, о чем очень сожалею. Во всяком случае, танцевать я так никогда и не научился.
Мой круг чтения формировался не только школой и театром, но и, как ни странно это может показаться, национал-социалистской культурной политикой. Читатели продолжали пользоваться большими печатными каталогами городских библиотек, только названия книг, изъятых из обращения, вымарывались красными чернилами. Имена евреев, коммунистов, социалистов, пацифистов, антифашистов и эмигрантов зачеркивались, но оставались различимыми. А это были имена Томаса, Генриха и Клауса Маннов, Дёблина, Шницлера и Верфеля, Штернхайма, Цукмайера и Йозефа Рота, Лиона Фейхтвангера, Арнольда и Стефана Цвейгов, Брехта, Хорвата и Бехера, Зегерс и Ласкер-Шюлер, Бруно и Леонгарда Франков, Тухольского, Керра, Полгара и Киша и многих других авторов.
Правда, сейчас я вспоминаю, что тогда и не слышал одно в высшей степени значимое имя — имя Франца Кафки. Из шеститомного издания его собрания сочинений еще в 1935 году в одном еврейском издательстве в Берлине смогли выйти четыре тома, а остальные два были изданы в Праге в 37-м, так как и Кафку, разумеется, внесли в «Список вредной и нежелательной литературы». Но никто в моем кругу, судя по всему, не знал Кафку. Он еще оставался известным только знатокам.