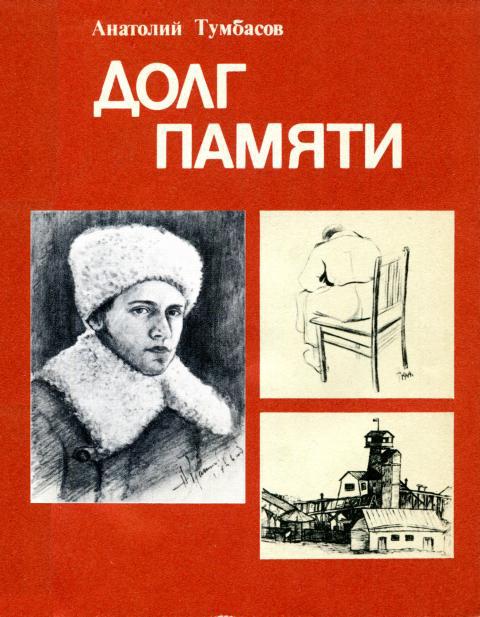«Полевая почта 35516-Ж». Нам только известно, что отец был на Ленинградском фронте.
Послевоенные годы — жадное наверстывание упущенного.
Учеба. Студенчество… Каникулы…
В летние каникулы я приезжал в Пласт, домой. Мама ждала. В комнатах, в сенцах, в чулане и во дворе прибрано; в горнице уютно и свежо, но я устраивался в чулане. На другое же утро мама разводила блины, рано не будила меня, давала поспать вволю. Летние каникулы мне, студенту-художнику, — настоящая страда. Целыми днями бродил я с этюдником, запаздывая к обеду. В печи сохли зажаренные в сметане караси, перепревал суп, топленое молоко подергивалось коричневой пенкой. Возвращаясь, я расставлял этюды на обозрение.
— Поешь ты сперва, — говорила мама, — потом смотри, вздыхай — не сразу Репиным будешь.
Мои этюды она ценила по-своему: «Хороший видок», «Красиво». Или: «Этот так себе, а этот — ничего». Хранила тоже по-своему: развешивала, дарила, а этюдами на картонках покрывала крынки с молоком. И считала, что «видочки пригодились в дело».
В лесах поспевали южноуральские вишни, ягоды. Мама пекла пироги из вишни, и такие сладкие! Пока сгибень сидит в печи — из него вытапливается, запекаясь на корке, тягуче-красный сок. Вишня под сдобной коркой разопревала, косточки делались мягкие и похрустывали, когда ешь. А в жаркие дни хлебали молоко с клубникой. Ссыплешь ягоды в чашку, зальешь молоком — вот тебе и душистая похлебка.
Светлыми вечерами мы сумерничали у раскрытых окошек. Поговорить и вспомнить было о чем. А перед глазами буйствовали кусты акаций, сирень, стоял тополь, свешивая ветви за палисадник. Даже в тихую погоду он трепетал жесткими листьями. Мама никогда не подрезала кустов, не четвертовала тополей. «Пускай растут», — говорила она и тем самым благословляла крапиву, полынь, репьи… Всякие травы, вместо цветов, росли перед нашими окнами. В сумерках стрекотали кузнечики, предвещая хорошую погоду. Особенно памятны вечера, когда в небе вставала подрумяненная полная луна…
Каникулы кончались накануне золотой осени, когда уже происходила заметная перемена красок в природе. Я собирался уезжать, складывал этюды, а мама незаметно подсказывала мне: «Если какие не глянутся, оставь дома, приедешь — посмотришь».
…Канули в Лету студенческие годы. Приезжать я стал редко, а мать писала: «Не могу жить одна, скучаю без тебя, сын…» И вот однажды я приехал за ней.
Начиналось предвесенье: вся улица была озарена солнцем. Оно уже прибавило «фитиль», и по всем крышам висели звонкой бахромой первые сосульки. Наш дом, отмеченный в ряду других тополями, сверкал от избытка солнца, даже, казалось, просвечивал насквозь. В доме все было по-прежнему, похоже, что мама не собиралась уезжать.
— Долго ли собраться! — обрадовалась мама и засуетилась: — Садись с дорожки, поешь!
А когда принялась скатывать половики, сразу же привычный с детства мамин уют поломался в доме. Она свертывала, передвигала, складывала, удивляя меня проворством, будто работала бригада. Что думала взять с собой — в одну сторону, а остальное Зине, Мане — теткам моим, соседям, знакомым.
— Ничего не надо, возьму только одежду и подушки, легонькие они, пуховые, — говорила мама, сбивая подушки и как бы взвешивая на руках.
Круто порывала она со своим углом, покидала дом, расставалась с хозяйством — будто я спугнул птицу с насиженного места. Улетая, птица так качнула ветку, что осыпались все листья; остались, может быть, два-три, остальные развеяло ветром. Человек привыкает к родной земле и ему небезразлично, где доживать век, однако мама и я — как две пылинки в огромном мире, две капли. И ради того, чтоб нам быть вместе, мама попускалась всем. Рисковать — это в ее характере! Отсюда и крутой нрав, и врожденная непоследовательность, и проворство. Она делала все как бы сгоряча, а выходило хорошо и споро.
Как собрались, мама сказала:
— Наживешь вот, надо все, а потом… — Она махнула рукой, и по ней было видно, что сделала она это с легкостью, с тем чувством облегчения, когда в жизни наступает перелом по доброй воле.
На новом месте, в большом городе, у мамы началась новая жизнь. Она пошла работать в краеведческий музей. И словно воспрянула, помолодела. Соберется утром, возьмет сумочку, остановится в дверях и спросит:
— Ну как? — Повернется кругом… улыбается…
Приду, бывало, мама увидит меня в залах издали и сияет: она на работе, дежурная в отделе истории.
Нет-нет да и скажет: «Что я раньше-то жила — и шила, и чеботарила… даже на золото старалась, да все ни в честь ни в славу».
Однажды маму избрали в президиум собрания. Такое в ее жизни впервые. Она выглядывала из-за сидящих впереди: искала меня в зале. Увидела — и засветилась. В белой кофточке, со счастливой скрытой улыбкой запомнилась мне мама в тот праздничный вечер.
А потом был маленький концерт самодеятельности. Мария Григорьевна, Александра Федоровна и моя мама — сослуживцы-дежурные — спели частушки. Мама волновалась. Волновались они все и забыли слова, но даже больше не от волнения, а оттого, что уж очень старались.
Частушки я не запомнил, а только припев:
Хорошо, хорошо!
До чего хорошо —
Замечательно-о-о…
И кланялись, взмахнув платочками.
На большую выставку «Урал социалистический» приехал к нам мой учитель — Николай Станиславович Качинский. Встретившись с мамой, вспоминал, как она носила ему мои письма из армии и рисунки, которые удавалось посылать, просила написать свое мнение.
На выставку во Дворце культуры мама собралась с нами, но не дождалась и ушла вперед. Там мы встретили ее. Николай Станиславович потом вспоминал:
«Седенькая, хрупкая, она с таким вниманием рассматривала картины, как будто сама была художницей. Ей, заметил я, хотелось поскорее показать картины сына, выполненные на строительстве Воткинской ГЭС… Как учитель и коллега, я был рад, увидев их. Нет, не зря прошли годы. Анисья Васильевна издали наблюдала за моим настроением, и когда я оглянулся, то увидел ее гордую, сияющую — мать художника.
Да! Это было счастье матери. Счастье, выстраданное временем».
Лето! Как ждем мы его, как надеемся… А весна порой козни строит. Так и на этот раз: весна перепутала календарь, и черемуха зацвела только в июне. Молодая листва долго не пускалась в рост, березы стояли в прозрачных платьицах, мелкие листочки дрожали на ветру в ожидании тепла.
С этюдником и планшетом я бродил далеко за городом, и вместо этюдов нашептывал, сочинял стихи:
Внизу прикамское село…
Над избами шатры
черемух белых,
На вспаханные огороды —
лепестков метель…
Вдруг над головой ни с того ни с сего заорала ворона. Я вздрогнул и обернулся в тот миг, когда она сверху летела на меня.