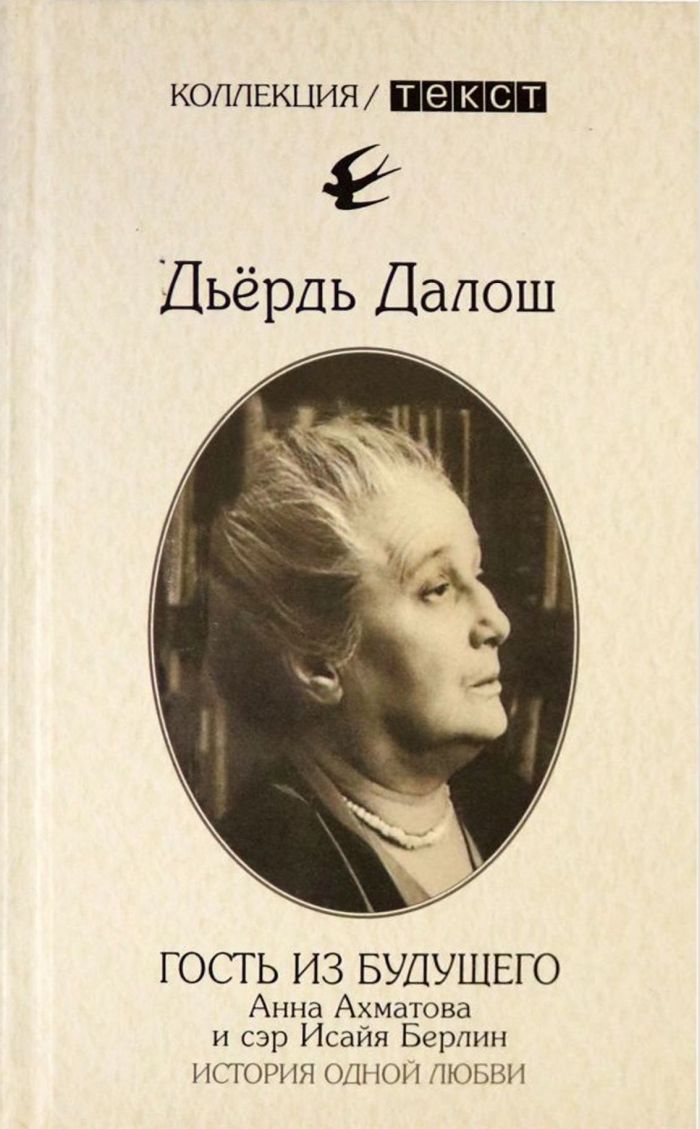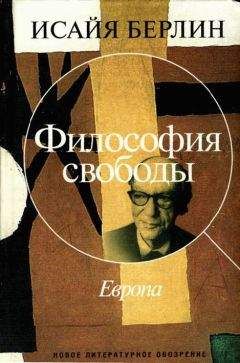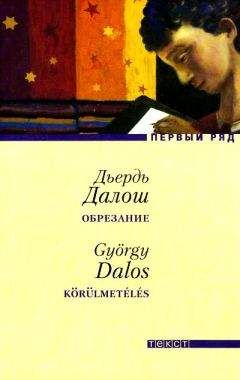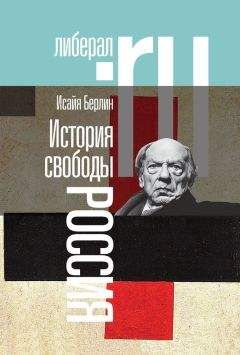написанное в семидесятипятилетнем возрасте — и обращенное, разумеется, к Берлину — любовное стихотворение:
Мы по ошибке встретили год —
Это не тот, не тот, не тот…
Что мы наделали, Боже, с тобой,
С кем еще мы поменялись судьбой?
Лучше б нас не было на земле,
Лучше б мы были в небесном кремле,
Летали, как птицы, цвели, как цветы,
Но все равно были — я и ты.
На таком уровне одухотворенности любовь не подчиняется власти земных сил; тут был бессилен даже Сталин. Напротив, Исайя Берлин, явись он в телесном своем воплощении, очевидно, нарушил бы трансцендентную связь с ним. Вот почему в августе 1956 года Ахматова сослала его в мир снов. Возможно, ее занимала не столько даже любовь, сколько право на собственную трагедию. Реальное свидание лишило бы ситуацию трагизма, перевело бы греческую драму рока в банальный, хотя и доставляющий боль исторический эпизод.
Цена же такой связи была очень высокой. Ахматова еще годы ждала мистической весточки (1958):
Позвони мне хотя бы сегодня,
Ведь ты все-таки где-нибудь есть,
А я стала безродных безродней
И не слышу крылатую весть.
Я уже говорил: Ахматова, среди прочего, опасалась, что ее новая встреча с сэром Исаией Берлиным может повредить Льву Гумилеву; правда, я же и оговорился, что в 1956 году реальность такой опасности была незначительной. Ведь отмена амнистии, хотя бы в отношении одного человека, сразу после ее объявления, шла бы вразрез с курсом XX съезда КПСС.
У Ахматовой, однако, было и других проблем по горло. Договоры на переводы в условиях советского книгоиздательства означали довольно высокий, но нерегулярный заработок. Ахматова всем сердцем ненавидела эту работу, тем более что ей поручали переводить в основном китайские, корейские, румынские, болгарские стихи, и работать она вынуждена была с подстрочниками. Однако без этих гонораров ей пришлось бы жить в таких же нищенских условиях, как большинству советских пенсионеров.
Потенциально еще сильнее давило на нее то, не совсем уже нереальное обстоятельство, что в принципе она могла публиковаться в журналах; в ближайшем будущем даже брезжил новый сборник стихов. Чтобы показать, насколько трудным и призрачным было такое предприятие, упомяну лишь, что Ахматова сдала рукопись сборника в издательство 21 октября 1953 года, но тоненькая книжечка под названием «Стихотворения» увидела свет лишь 5 ноября 1958 года.
Такой невероятно долгий срок издательской подготовки объяснялся не только сверхнедоверчивой цензурой, за каждой печатной строчкой вынюхивавшей антисоветские помыслы, но и непроясненным писательским статусом Ахматовой. Новая официальная позиция, связанная с ее персоной, все никак не могла определиться. Попросту говоря, вопрос об Ахматовой был частью проблемы Жданова. Для того чтобы поэтесса обрела хотя бы тот статус, который был у нее до августа 1946 года, нужно было пересмотреть Постановление ЦК, отмеченное именем Жданова.
Доживи Андрей Жданов до XX съезда КПСС, он, скорее всего, протестовал бы против произнесенного Хрущевым секретного доклада (такое предположение можно сделать, помня об исключительной преданности Жданова Хозяину), и тогда его вывели бы из Политбюро, а то и исключили бы из партии, как позже — Молотова и Кагановича. В этом случае бывшие соратники с легкой душой свалили бы на него все ошибки прежней культурной политики, и Анна Ахматова (при условии, что сохранит лояльность режиму) вернула бы себе если не прежнюю славу, то хотя бы официальное признание. Однако покойный Жданов относился к неприкасаемому фонду советской идеологии, освободиться от которого было труднее, чем от самого Сталина.
Особенно нервно реагировало новое советское руководство на всякого рода попытки придать трагическим событиям сталинской эпохи принципиальный смысл, то есть увидеть в них нечто большее, чем историческую случайность или следствие капризной натуры диктатора. Когда Пальмиро Тольятти, лидер итальянских коммунистов, в июне 1956 года в интервью, данном журналу «Нуови аргументи», заговорил, в связи с Большим террором, о «некоторых формах перерождения» советского общества — «Правда» незамедлительно ответила на это, опубликовав гневное решение ЦК. С таким же возмущением советское руководство отвергло предложение югославских коммунистов осудить сталинские теорию и практику как «сталинизм».
Не пользовалась этим термином и критически настроенная советская интеллигенция: она употребляла слово с архаическим суффиксом — «сталинщина». Звучало оно примерно так, как если бы в Германии кто-нибудь сказал «Hitlerei»; однако семантика русского слова уходит глубже. Все прежние понятия в русской истории, снабженные этим суффиксом (как, например, «аракчеевщина», слово, образованное от фамилии сурового временщика и ставшее синонимом тупого преследования всякого свободомыслия), звучали с оттенком насмешки, даже издевки, так что понятие «сталинщина» плохо сочеталось с официальной линией партийной верхушки, пытавшейся найти золотую середину между «ошибками» и «заслугами» Сталина.
Когда Назым Хикмет, турецкий поэт, живущий в Москве, 15 июня 1956 года на собрании Союза писателей СССР впервые назвал культурную политику конца 40 — начала 50-х годов «ждановщиной», он встретил жесткий отпор со стороны писателей, верных режиму. Среди немногих, кто его поддержал, была Ольга Берггольц, ленинградская поэтесса, близкая подруга Ахматовой. Будучи членом партии, она должна была тщательно выбирать слова, но содержание ее выступления не оставляло сомнений.
«Считаю, что одной из основных причин, которые давят на нас и мешают движению вперед, являются те догматические постановления, которые были приняты в 1946–1948 годах по вопросам искусства… Давайте, товарищи, говорить о них теперь с полной откровенностью. Почему — теперь? Потому что именно теперь, после XX съезда, после доклада тов. Хрущева о культе личности, нам ясно, что эти постановления были выражением личных вкусов Сталина, то есть были порождены исключительно культом личности».
Партийное руководство забеспокоилось, но пойти на открытую дискуссию не отважилось, опасаясь вызвать выражения симпатии к литераторам, которые стали объектом преследований. Поэтому, например, чиновник от литературы Б. Рюриков, ополчившись против Ольги Берггольц в «Правде», не назвал ее по имени. «Нашлись отдельные литераторы, — писал он в конце августа 1956-го, — которые пытались представить как утратившие силу известные решения ЦК партии по вопросам литературы и искусства. Решения партии направлены против отрыва от жизни народа, от политических задач современности, против забвения общественно-преобразующей роли искусства — и это принципиальное содержание партийных документов мы будем отстаивать в интересах развития литературы».
Специфика формализованного партийного языка (новояза) заключалась в том, что ни используемые выражения, ни умолчания отнюдь не были произвольными, случайными. Если Рюриков в первой фразе говорит о «литературе и искусстве», а во второй — только об искусстве, это признак того, что к этому