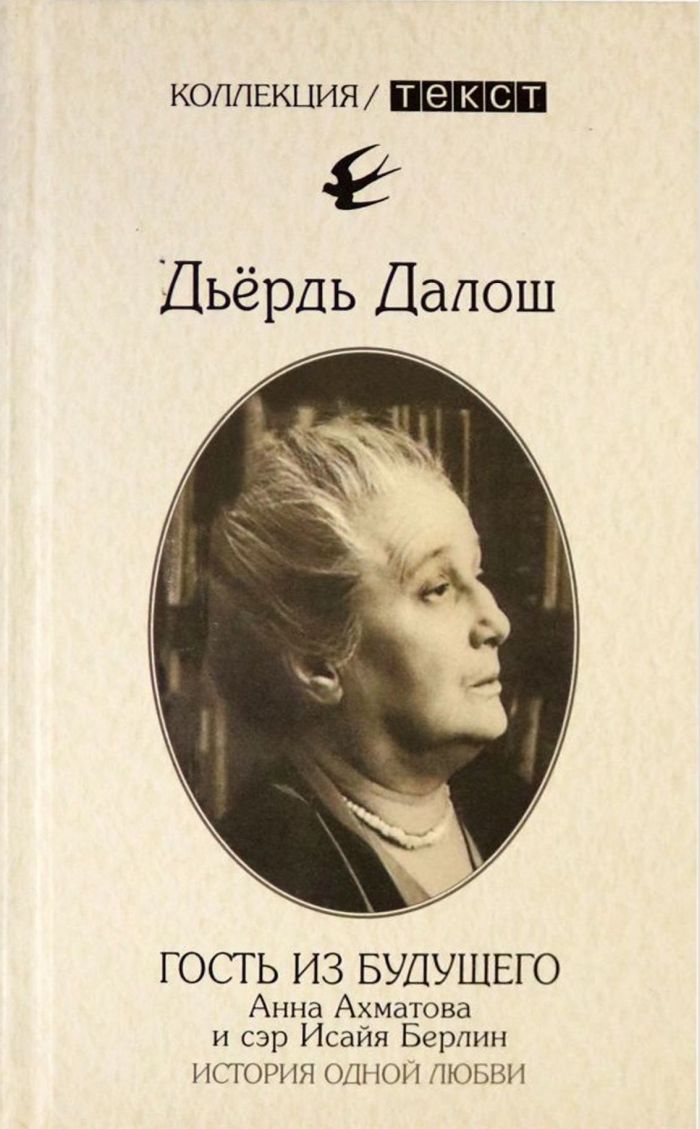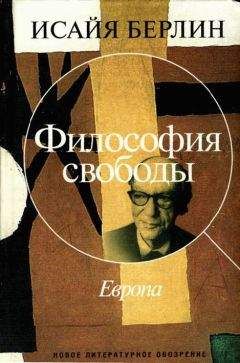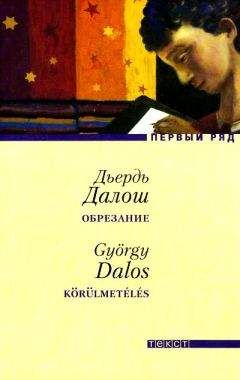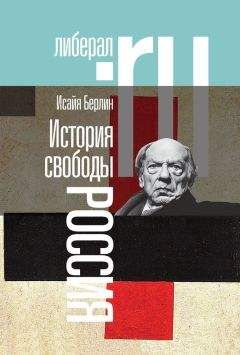«Разве мне может быть где-нибудь хорошо?» «И я увидела, — пишет Чуковская, — какие усталые у нее глаза».
Что же это была за «весть», настигшая ее уже 14 августа? Упомянутое стихотворение, в соответствии со своим названием, говорит о сне. «А мне в ту ночь приснился твой приезд». Что значит — «приснился»? Исайя Берлин вполне реально находился в Москве. Проведя некоторые изыскания, можно даже установить момент, когда его самолет приземлился во Внуковском аэропорту… Однако Ахматова говорит здесь о другом событии.
Он был во всем… И в баховской Чаконе,
И в розах, что напрасно расцвели,
И в деревенском колокольном звоне
Над чернотой распаханной земли.
Нет сомнений: прибыл кто-то, кто был с ней и до своего прибытия. Чакона Баха, мотив, использованный Ахматовой и прежде, достаточно ясно отсылает нас к тому моменту, когда Гость появился в Фонтанном доме. Да и музыка, Бах или Вивальди, это одна из тех сфер, где Ахматова охотно встретилась бы с тем, кого она всегда ждала.
И вот теперь во сне к ней приходит некто конкретный, с кем она не хочет встретиться наяву.
Возможно, Ахматова как женщина, движимая или тревогой за судьбу сына, или оскорбленной гордостью, или тем и другим вместе, отказалась от встречи с Берлиным. Но как поэтесса она пишет о других чувствах: об отчаянии, о панике.
Чем отплачу за царственный подарок?
Куда идти и с кем торжествовать?
Подобные мысли приходят в голову нищему, ожидающему в гости богача… А несколькими днями позже, 18 августа, Ахматова пишет так, словно хочет прояснить досадное недоразумение или предупредить горькое разочарование.
Ты выдумал меня. Такой на свете нет,
Такой на свете быть не может.
Мы встретились с тобой в невероятный год,
Когда уже иссякли мира силы,
Все было в трауре, все никло от невзгод,
И были свежи лишь могилы.
Так вот когда тебя мой голос вызывал!
Что делала — сама еще не понимала.
Таким образом, у Ахматовой как у живой, из плоти и крови женщины могли быть аргументы или за, или против встречи с реальным Берлиным; в то же время Ахматова-поэтесса думает о Госте, испытывая, вне всяких сомнений, ужас. Ведь в свое время, утверждает Ахматова, Берлин пришел на их чудесное, историческое свидание по ее зову. Но что могла принести им новая встреча?
Лишь 14 сентября 1956 года, после отъезда Берлина, Ахматова показала Чуковской два процитированные выше стихотворения, пояснив: «Они уже были написаны, когда я вас видела, но я не решилась вам прочесть. И никто мне ничего про них не говорит. Сказали бы хоть вы два слова…» Чуковская послушала и сказала: «Скажу ровно два: великие стихи». — «Не хуже моих молодых?» — «Лучше».
Ахматова, таким образом, получила точно такой ответ, который хотела услышать. Исполнилось ее наивное желание: удостоиться за эти два стихотворения самой большой похвалы, причем из уст такого знатока поэзии. Но почему она заставила себя так долго ждать столь желаемого признания? И почему пыталась сначала добиться его у других читателей, которые к этим стихам, вырвавшимся из самой глубины сердца, могли бы прицепить, как блестящие побрякушки, разве что стандартное «замечательно!» или вежливое «бесподобно!»? Вернее, зачем ей понадобилось сначала (23 августа) сообщить о факте «несостоявшейся встречи», а уж потом, через три недели, прочитать связанные с этой «невстречей», но написанные раньше стихи? Я думаю, объясняется это тем, что в момент создания этих двух стихотворений, то есть 14 и 18 августа, она уже знала, что Исайя Берлин находится в Москве, но еще не приняла окончательного решения в связи с этим. То есть ей не хотелось, чтобы Чуковская, посвященная во все ее переживания, узнала о ее колебаниях и метаниях и, не дай Бог, не повлияла бы на решение, склонив ее в ту или иную сторону.
Само это понятие — «несостоявшаяся встреча», «невстреча» — возникло лишь после телефонного разговора с Берлиным. И уже тогда обрело — что характерно для Ахматовой — эпитет «таинственная».
Таинственной невстречи
Пустынны торжества,
Несказанные речи,
Безмолвные слова.
Нескрещенные взгляды
Не знают, где им лечь.
И только слезы рады,
Что можно долго течь.
Трудно избавиться от подозрения, что поэтесса, давая волю «радостным» слезам, и в самом деле испытывала что-то вроде торжества: ведь она одержала победу над собой. Несостоявшаяся встреча потому и стала таинственной, что спрятала в себе тайну Ахматовой. Поэтесса поступила с «Гостем из будущего», как государство, в котором она жила, поступало со стратегического значения предприятиями и людьми, работавшими на них: оно засекречивало их, объявляло «совершенно секретными». В написанной позже статье («Проза о поэме», 1961) Ахматова подтвердила этот статус: «Таинственный „Гость из будущего“, вероятно, предпочтет остаться неназванным…» Это — не пожелание, а повеление.
В то же время Ахматова, конечно, мечтала о как можно более тесных отношениях с Берлиным. У нее появляется даже мотив супружества; правда, в отрицательной форме. «Он не станет мне милым мужем», — написала она в третьем посвящении к «Поэме без героя». А в недавно обнаруженной строфе, изначально относившейся к стихотворению «Во сне» (написанному в 1946 году — не путать со «Сном», созданным десять лет спустя), но потом вычеркнутой в рукописи, она высказывается еще яснее:
Мы с тобою, друг мой, не разделим
То, что разделить велел нам Бог,
Мы с тобою скатерть не расстелем,
Не поставим на нее пирог.
Я убежден, что Ахматова и в ноябре 1945 года в принципе не отвергала мысль о браке с Берлиным, не видела в ней чего-то абсурдного и фантастического. Об этом, кстати, свидетельствует и ее разочарованная реплика, когда она узнала о его женитьбе («Он женился только в прошлом году» [5].) — словно до этого она надеялась, что встреча будет носить совсем другой характер. Воображение ведь не знает ни сословных условностей, ни государственных границ. В мире своих снов, в мире мечты Ахматова просто жила так, как чувствовала. И уж менее всего ее пугала разница в возрасте, которую она вообще воспринимала как космическую случайность: об этом свидетельствует хотя бы