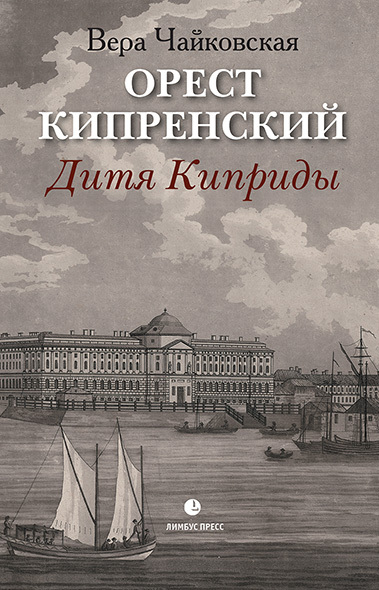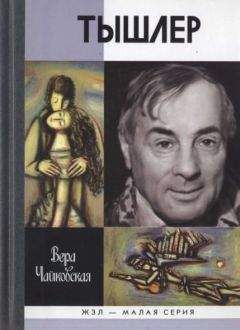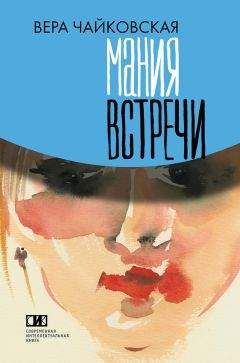А. Н. Голицына идеей переноса мощей cв. Николая-чудотворца из Бари в Петербург. Идея российских чиновников не заинтересовала. Сейчас в Бари – популярное среди русских путешественников российское подворье.
Через некоторое время Орест сообщает Алексею Оленину о замысле картины «Петр Великий в Саардаме» [170]. Но и этот замысел не вызвал энтузиазма и не был осуществлен. Во всех этих предложениях чувствуется какой-то надрыв. Кипренский не был фанатичным приверженцем православия, что вскоре докажет его переход в католичество, вызванный женитьбой на католичке. Действие, конечно, вынужденное, но подготовленное многолетним дружественным общением с католическими прелатами.
Такая же странность есть в предложении написать историческую картину. С ученических времен он таких картин не писал, и едва ли бы у него что-то получилось. Все это – некие поиски выхода из тяжелейшей финансовой ситуации. Попытка заручиться поддержкой в России.
В апреле 1832 года Кипренский уезжает из Неаполя в Рим – в сопровождении все того же Матвея Постникова. И снова отъезд похож на катастрофу. Видимо, оставаться уже нет сил. Деньги на дорогу он одалживает у графа Штакельберга, который прежде уже писал в Петербург министру двора князю Волконскому о «расстроенных делах» и «неотложных долгах» Ореста [171].
Как мы помним, сановник уповал на «царскую милость, которой не последовало. Кипренский не кутил и не проматывал деньги. Он работал, но работал без заказа, «по вдохновению». А пенсиона у него не было. Отмечу, что свой долг Штакельбергу он через некоторое время вернул.
Глава 17. Рим. Жизнь и смерть
Думаю, что первым делом он навестил в Риме Мариуччу, которая его в своем страшновато звучащем на русский слух Приюте для неприкаянных, конечно же, заждалась. Он наверняка уверил ее, что вскоре уладит свои дела и они поженятся. А пока что он участвует в римских выставках, посещает мастерские художников, к нему в мастерскую приходят русские путешественники, например, в 1833 году – Василий Жуковский. Кипренский его тоже навещает. Из дневника Жуковского известно, что «поутру» его навестили в Риме Кипренский с Брюлловым [172]. Еще одно свидетельство дружбы двух художественных гениев. Кипренский был давно знаком с Жуковским, в 1816 году написал его юношеский портрет, а сейчас привел к нему молодого блистательного Карла Брюллова. Тот впоследствии тоже напишет Жуковского, а на вырученные за портрет деньги будет выкуплен из крепостной неволи Тарас Шевченко. Такая вот знаменательная цепочка…
О римской жизни Кипренского пишет престарелый Иордан, напрягая ослабевшую память: «Все, что ни делалось или писалось в Риме, где бы студия какого-либо художника ни находилась, где было на что взглянуть или увидать, и в какое бы время года ни случилось, наш Кипренский там и всегда относился благосклонно, особенно, когда он замечал, что художник, которого он посетил, ценит его достоинства, ибо самолюбию Кипренского не было меры!» [173]
Не знаю, как насчет самолюбия, но свои оценки изображенным на картинах персонажам Орест выносил с какой-то детской безусловностью. И в них далеко не был вялым, безразличным и «постоянно благосклонным».
В Риме он изображает еще одного поэта, своего давнего знакомца – князя Петра Вяземского (1835, ВМП). Вяземский – друг Пушкина, блестящий острослов. На портрете трогательная подпись: «В знак памяти». Но ни эта подпись, ни постигшее Вяземского горе – у него в Риме умерла в эти дни от чахотки юная дочь – не смягчили сердца Кипренского. Вяземский ему явно антипатичен. Персонаж, представленный в профиль, редкостно сух и холоден, закутан до горла в сюртук, как в кокон, смотрит на мир сквозь круглые очочки, скрывающие глаза. И карандашные штрихи какие-то слишком прилизанные, совершенно без экспрессии. Вероятно, рационализм Вяземского Кипренского бесконечно раздражал.
Он снова пьет вино, что говорит о каких-то существенных «недостачах» в эмоциональной сфере. Мариучча рядом, а жениться он не может. Нет денег. Но и тут это употребление легкого итальянского вина сопряжено с эстетическим любованием его цветом. Тот же Иордан вспоминает, как застал ночью в римском трактире Кипренского: «В руках он держит приподнятый стакан красного вина перед лампочкою, восхищается его цветом» [174]. Накануне «перемены участи», в ожидании женитьбы и переезда в Петербург, Кипренский «подбадривает» себя вином. Кстати, этот переезд в Петербург – вовсе не его мистификация, как можно было бы подумать. Незадолго до своей смертельной болезни, осенью 1836 года, он отсылает ящики со своим имуществом в Петербург. Интересно, что картины так и путешествовали всю жизнь вслед за ним или немного его опережая – он хотел видеть свои лучшие вещи «живьем», иногда делая авторские повторы.
Из Рима он в 1834 году уезжает на полгода во Флоренцию, а в 1835 году – снова в Неаполь. Но неизменно возвращается в Рим, где его главный магнит.
Наконец в феврале и мае 1836 года он получает векселя от царя за «Портрет отца» и от графа Дмитрия Шереметева за «Ворожею со свечой» и «Читателей газет в Неаполе». Все сошлось. Теперь он может жениться.
В июне 1836 года он тайно от колонии русских художников-пенсионеров принимает католичество. Иначе невозможно жениться на католичке. Думаю, что, решившись на этот шаг, он вспоминал Адама Швальбе. Тот ведь был лютеранином, а жил среди православных. Все это не столь важно. Важна любовь. Кипренский, получивший фамилию, образованную от имени античной богини любви Киприды, это прекрасно понимал.
20 июля 1836 года он женится на своей Марьюче – Анне-Марии Фалькуччи. Кстати, в католическом брачном свидетельстве Адам Швальбе назван им Адамом Копорским – громкое и вполне «царское» имя [175]. Очередная мистификация Кипренского, которая для него была истиннее любых фактов.
Вероятно, в эти дни парочку встретил в Риме все тот же Федор Иордан, собиратель сплетен: «…нечаянно встречаю его гуляющим по улице с молодою белокурою римлянкою, хочу поздравить его… В Риме, боже избави, гулять с римлянкою под руку, если она вам не жена, девицы даже боятся кланяться мужчинам на улице».
Но это как раз и была жена. Иордан добавляет, что Кипренский «нанял отличную квартиру в доме Клавдия Лерреня на горе Пинчио…» [176]. Так Иордан называет знаменитого французского художника Клода Лоррена, который некогда жил в этом доме, и дом сохранил его имя.
Вот для чего нужны были деньги! Поместить бедную смиренную Золушку из Приюта для неприкаянных в артистическое палаццо на горе! Кипренский знал толк в таких превращениях. Вероятно, годами обдумывал этот головокружительный сценарий.
Злобный Иордан передает сплетню, что Кипренский продолжал предаваться своей страсти к вину, а жена не впускала его в дом, и он ночевал под его портиком. Там он через три месяца после женитьбы простудился и вскоре умер от воспаления легких [177]. Даже проницательный Турчин повторяет эту явную клевету, говоря, что жена перед смертью художника «была