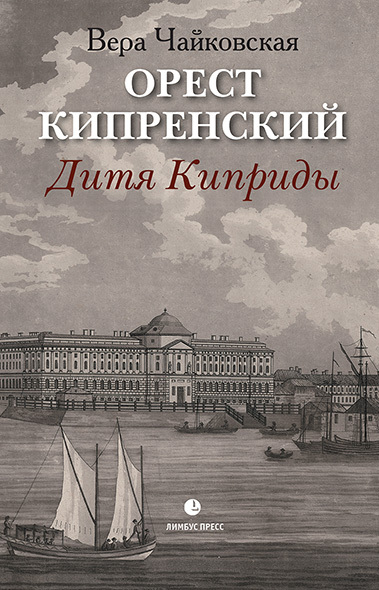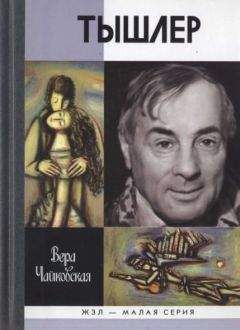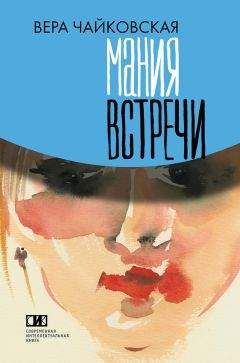…Мне все кажется, что в Италии явится молодой художник, потомок Ореста Кипренского, который будет «вздыхать о сумрачной России» и бесконечно любить творчество своего знаменитого предка…
Глава 18. Орест Кипренский и поэты
На страницах книги уже не раз возникали отголоски этой темы. Хочется собрать отдельные наблюдения воедино.
Художники романтического склада вообще, как правило, ориентировались на музыку и поэзию, в которых легче всего можно было передать то «невыразимое» (если воспользоваться названием одного из программных стихотворений Василия Жуковского), которое составляло суть их исканий.
Но Кипренский был увлечен не только стихией поэзии самой по себе, его привлекали поэты со всем своеобразием их личностей и судеб. В художественном мире Кипренского поэты становились мерилом подлинно человеческого, так же как и дети. Поэты несли в себе заряд детской естественности, а дети сохранили поэтически целостный и непосредственный взгляд на мир. Кстати, собственная судьба Кипренского выстраивается вполне по поэтическим образцам.
Да ведь это и вправду был золотой век русской поэзии! И, в сущности, именно Кипренский оставил нам портретную галерею замечательных поэтов своей эпохи из разных, часто враждующих станов. Но его интересовали не политические и не стилистические разногласия, а некое сущностное ядро личности поэта. И как некий апофеоз этой личности на пике творчества он создал образ гениального Пушкина.
Не любопытно ли, что поэзию Пушкина любил и Карл Брюллов, который с Пушкиным был в приятельских отношениях. Но вот портрета так и не написал. У Брюллова были сложные отношения с гениальными личностями. Возможно, он боялся излишнего пафоса. Он охотнее героизировал и возвышал людей, казалось бы, не слишком выдающихся, таких как художник Яненко, изображенный им в рыцарских латах, или средних дарований поэт Нестор Кукольник, на портрете очень яркий и подчеркнуто театрализованный. Талантливейший Жуковский, у которого впереди была «новая жизнь» с женитьбой на молодой девушке, переездом в Германию, блистательным, молодым, открытым будущему переводом «Одиссеи», – у него на портрете 1837 года получился каким-то пресным и успокоенным дядюшкой. Крылов на портрете 1839 года выглядит диким, «зверообразным», с неопрятными космами седых волос, как отрицательный персонаж собственных басен.
А вот Кипренский всегда умел найти некую внутреннюю меру, связывающую поэтический мир художника с его личностью. Его портреты словно вход в авторский художественный космос – сложный, вибрирующий, лишенный бытовой приземленности. Для подобных портретов нужно было любить и понимать поэзию, что не так просто. В XX столетии Анна Ахматова выделяла только двух живописцев, наделенных этим даром, – Александра Тышлера и Амедео Модильяни. Оба оставили замечательнейшие рисунки Ахматовой.
В сложных для обоих – и Тышлера, и Ахматовой – житейских условиях ташкентской эвакуации Тышлер в 1943 году создал за один сеанс графическую серию ее совершенно внебытовых, точных и очень молодых портретов. Кстати говоря, искусствовед Всеволод Петров в блистательном эссе о Михаиле Кузмине «Калиостро» пишет, что дом поэта в Петербурге посещали москвичи Тышлер и Осмеркин, которые выделялись пониманием стихов [190]. Иными словами, вовсе не любой художник романтического склада в полном смысле понимает поэзию. Судя по всему, в XIX веке таким безошибочным чутьем на поэзию и подлинных поэтов обладал из живописцев исключительно Кипренский.
Жизнь Кипренского, не имевшего в Петербурге своего постоянного жилья, складывалась так, что он не мог собрать библиотеку. Систематически приобретать книги он начал, судя по всему, живя в Италии, и в основном – по истории и искусству – на иностранных языках. Но несколько русских поэтических книг он с собой все-таки захватил. Это были пушкинские «Цыганы», изданные в 1827 году в Москве отдельным изданием. Как известно, пушкинский портрет он писал в том же году и, возможно, получил экземпляр в подарок от самого поэта. В списке книг, присланных в Россию (как известно, Кипренский хотел вернуться с молодой женой в Петербург и выслал из Италии предварительно свои вещи), есть также басни Крылова и сочинения Козлова (в списке названа его «повесть» «Чернец» [191]). Всех троих Кипренский изображал. Слепого поэта Ивана Козлова, как принято считать, он рисовал между 1823 и 1827 годами («Портрет И. И. Козлова», между 1823 и 1827, ВМП, С.-Петербург). В сущности, в этой датировке охвачен почти весь период пребывания Кипренского в Петербурге после возвращения из Италии. Но вполне возможно, что прекрасный рисунок в овале поэта Козлова, где его слепота благородно смикширована, был ответом Кипренского на подаренную Козловым книжку, затем увезенную в Италию. Тогда портрет рисовался в том же 1827 году, незадолго до второго путешествия Кипренского в Италию летом 1828 года.
Из русских поэтов в описи – только названные имена. Но это означает лишь то, что Кипренский остальных своих персонажей-поэтов читал в журналах и помнил наизусть. Сами портреты говорят о знакомстве художника с поэтическим миром изображаемых творцов.
Портрет молодого Василия Жуковского (1816, ГТГ) – один из самых романтических в творчестве художника. Возможно, тут сказалась и близость долгожданной пенсионерской поездки в Италию, которая состоялась через несколько месяцев после написания портрета. Но, несомненно, сама личность Жуковского, яркого и живого предводителя «Арзамаса», и «меланхолически-лунная направленность его поэзии – все это было пережито Кипренским как вполне свое, очень близкое по духу. Портрет поэта, изображенного в круге, полон романтического беспокойства. Клубятся ночные облака над таинственными башнями, взлохмачены волосы на его голове, словно поднятые порывом ветра. Взгляд устремлен в какую-то вымечтанную «очарованную» реальность, губы приоткрыты, будто он хочет что-то вымолвить, а крепко сжатая ладонь в жесте задумчивости поднесена к щеке. Поразительная смесь тревоги и покоя, движения и мечтательной тишины – то, что как раз и свойственно лирике молодого, порывистого и одновременно мечтательного Жуковского. Сам Кипренский пережил меланхоличеки-лунные, в духе поэзии Жуковского, состояния во время тверского уединения, памятником чему стал «Пейзаж с рекой в лунную ночь» (1811, ГТГ). В Италии Кипренский продолжит свои метафизические «ноктюрны» в целой серии работ, названной мною «итальянским» циклом [192]. И эти работы, положим, такие, как «Молодой садовник» (1817, ГРМ) или «Ворожея при свече» (1830, ГРМ), перекликаются с углубленно метафизической поэзией молодого Жуковского, с его таинственной, окутанной любовным туманом балладой «Эолова арфа», а также со знаменитой «Светланой», содержащей красочную сцену ночного девичьего гадания. В живописном плане портрет редкостно аскетичен – только темные, коричневато-черные «ночные» тона, на фоне которых мерцают башни и светится живое, юношески непосредственное лицо поэта.
Константина Батюшкова – поэтического антипода Василия Жуковского, пребывающего в том же шутейном «Арзамасе», Кипренский рисовал несколько раз. В сборнике документов о Кипренском под редакцией Якова Брука в основных датах его жизни и творчества указаны рисунок, видимо, утраченный, Батюшкова за 1812 год (он в это время служил в петербургской Публичной библиотеке под началом Оленина) и известный рисунок 1815