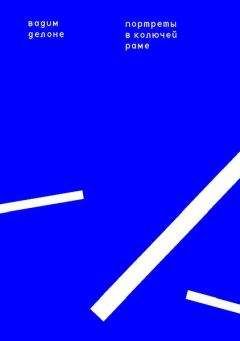– Вон оно как бывает, – заглатывая колбасу, рассуждал вслух Архипыч, – я-то думал, вы так, блатные, и политик вместе с вами, только и думаете, чтоб от работы улизнуть.
А вы людьми оказались. Я-то ведь, прости Господи, на вас доносил…
– Что доносил, – это мы и без тебя знаем, – оборвал Санька. – Вон политик за тебя жалобы пишет твои дурацкие, а он болен, и его ни один даже вольный врач освободить от этой работы не может.
– Ты что же не сказал? – жалобно обратился ко мне Архипыч. – А я-то дурень, я все потому, что думал – всем поровну работать нужно. Это у нас вроде везде закон такой.
– Да, поровну! – смеялся Санька. – Вон тебя за починку трактора засадили, половину денег на содержание начальства вычитают, а остальное – за убыток социализму. Тебе даже на махорку в ларьке и то не хватает. А ты все с жалобами. А они – за то, что твои жалобы в корзинку выкидывают, на свою машину и икру получают. Вот тебе и «поровну». И никто тебя не освободит за твой верный труд – ты же красную повязку не наденешь, и про то, что мы тебя угощаем сегодня, докладывать не побежишь. Ты только насчет всеобщего равенства касательно труда доносишь, а это давно никого у нас не волнует. Ты все думаешь доказать, что ты честный, но таких-то как раз и не освобождают досрочно. Раз уж честный, так и сиди. Вот если станешь стукачом по всем статьям, если оговаривать людей научишься, протоколы липовые подписывать, тогда, может, и освободят, и то неизвестно – могут и до конца срока для пользы дела в зоне продержать. Подкинут маргарину – и весь тебе праздник.
– Да как же так?! – сокрушался захмелевший Архипыч. – Я же всю жизнь вот своими руками все делаю, я же работяга. Всего себя на мозоли извел, а выходит, что ты лучше меня, и принципа в тебе больше, а за тобой сколько лихих дел числится!
Санька откинулся на штабель, как на спинку позолоченного кресла, и безмятежно уставился в небо.
– Станешь лихим, если сильно прижмут, а гнуться не захочешь. Вот и фамилия у меня – Арзамасский – тоже ведь личности не соответствует. Как это у вас, политик, называется – псевдоним, что ли?
Архипыч опять встрепенулся:
– Это ты брось, у нас какая кому фамилия дадена, такая до смерти и есть.
– Ну да, что же там большевички ваши под псевдонимами числились, кого ни возьми – Ленин, Сталин, Троцкий – открыто под своей фамилией неохота выступать было. А я так – привезли в детский дом, фамилию спрашивают, а я, естественно, молчу. Они меня бить принялись, но от меня битьем-то мало что добьешься. Три дня упражнялись, потом установили, что я в Тюменской области нарисовался, хрен сотрешь, будучи пойман в поезде, который шел из южного города Арзамаса. Так Арзамасским и записали. Ты, Архипыч, тоже родом из южных мест, родители-то раскулаченными были, в тайгу привезли, так или не так?
Архипыч выпучил глаза:
– Да откуда же ты знаешь, это и начальство лагерное не знает?
– Эх, Архипыч! Невелика наука – работаешь ты больно споро, все мастерить умеешь, стало быть, из семьи, в Сибирь сосланной за то, что любимую корову отдавать в колхоз не хотели. Больно ты большой специалист, таких мужиков теперь нет, всех извели и закопали в землю без крестов.
Папаню моего, как и тебя, в Сибирь щенком привезли, одних годов с тобой будет. Дед мой, видишь ли, поверил в 20-е годы заверениям большевиков о пользе частного сектора, ну и проявил скромную инициативу. Потом этапом в Сибирь доставлен был. Полсемьи дорогой вымерло, как и у тебя, небось, Архипыч…
Архипыч мял в руке стакан, как мнут шапку просители. Мы налили ему еще, до краев налили.
– Ну вот, – продолжал Санька, – папаня мой, не в пример тебе, к сельской жизни с детства не привыкал и, понятно, решил, что помрет в тайге ни за грош. Документов, сам знаешь, ни ссыльным, ни семьям на руки не выдавали тогда, да и сейчас не выдают. Так что начал он с подделки бумаг, ну и пошел в гору. Сошелся с ворами. Тогда при «любимом» Сталине ворье в полный рост гуляло, не очень-то на нашего брата внимание обращали, все больше чистками партийными занимались, да интеллигентов и священников травили. Короче, жил мой папаня припеваючи, да и в лагерях не скучал. Виднейшие прокуроры, коминтерновцы разные и прочие артисты ему закурить подносили и портянки стирали. Батя мой и вся их компания так полагали, что ежели за политику сидит, значит – бывший начальник и коммунист, тем паче что по лагпунктам лекции закатывали – дескать, кто за политику попал, – все фашисты. Ну так честное ворье над ними и измывалось, не предполагая, что самих в политику втравят. Началась война с немцами. Всем, кто по воровским статьям сидит, предложили вперед, на фронт. Год в армии три года тюрьмы списывает. Тут пошли толковища, закон воровской построже нынешнего был: не имеешь права ни работать, ни как-либо сотрудничать с властью – иначе ты не вор, и каждый с тобой может что угодно сделать безнаказанно. Пахан мой был из числа тех, кто воровской закон до конца отстаивал – дескать, сами воюйте, что же мы, без прав остались, а за вас воюй. Но многие пошли. Вот по сей день пишут: армия Рокоссовского, а армия-то – одни бывшие блатные да бытовики, их еще тогда поляками называли. Многие из папаниных корешков до Берлина дошли. А куда денешься – позади погоняльщики с автоматами, тут не то что до Берлина, до Нью-Йорка дойдешь, а в океан только плюнешь. Грабить разрешалось, но долго на немецких тряпках не проживешь, и те, кто в живых остались, опять отправились на лагерные зоны, но те, кто из лагерей под предлогом войны не выходил, их не приняли, как своих – «закон нарушили, власти служили. К начальству за подачками бегаете. Сегодня у вас предлог – война, а завтра и вовсе коммунистам служить начнете, суки». И началась бойня. Как ты мне слово-то говорил, политик, которое к делу подходит очень, да, «отверженные». Так вот отверженные эти сразу же на вахту кинулись к начальству: дескать, мы фронтовики, мы за вас сражались. Поначалу им все посты дали – и бригадиров, и каптерщиков, все, что было теплого, все у них в руках. И стали они гнуть и давить воров, закону верных. Но не знали, что какой-то умник из сталинской гвардии уже отдал приказ: «преступный мир должен сам изжить себя». Ну тут и началось. Разразилась «сучья война». А начальство наше только войной этой руководило. Привозят, скажем, этапом воров на зону. Они спрашивают: «Зона-то какая, воровская?» – «Не волнуйтесь», – убеждает начальство. Заводят в зону, а там сучня, уже к прибытию гостей подготовленная. И наоборот. В общем, сколько в этой резне народу погибло, не счесть. Только указ правительства о том, чтоб сами себя извели, был не только выполнен, но и перевыполнен. Аптекари ментовские каждый день рассчитывали, кого в окружение загнать – воров к сучне или сук к ворам, до полного истребления. Суки стали везде во главе и вели себя похлеще нынешних сэвэпэшников. Воров в законе все меньше и меньше оставалось. А когда на Воркуте началось восстание, которое политики организовали, тогда многие из компании моего папани ужаснулись – за что, мол, мы их гоняли, ездили на них верхом, но поздно было: воров стали уничтожать как класс. Многие помогали, когда политики восстали, да и заключенный в лагере не то чтобы изменился особенно, а просто понял, что терять нечего. Среди тех, кого политиками называли, много было народу, которого из германских лагерей в наши перегнали, и срока у них были такие, что все равно не отсидишь… У нас все толкуют издавна, что дети за отцов не в ответе. А я вот уже в третьем поколении в ответе… После войны с особым наслаждением принялись очищать города и деревни ото всех, кто мешал, как это называлось – «реконструкции». Добрались и до семей воровского нашего сообщества. Десять лет мне было, когда в первый раз на допрос потащили, пару дней упражнялись, вернулся я изрядно помятым. Все одни и те же вопросы: «Кто в доме бывал, назови». А заезжали папанины друзья – кто на ночь, кто на неделю. Я не то чтоб их любил, так, хамье, драки по ночам, кровавые слезы, бабы в очередь, кто угостит… Нет, не любил и легендарного папаню моего, который у них верх держал, тоже не любил, да и не помнил его толком.