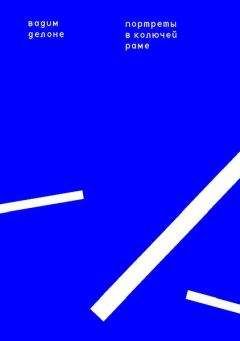– Вы же поэт, журналист, – убеждал меня лейтенант, – ну у вас есть разногласия с линией партии – это пройдет. Вот даже в вашем деле есть о вас хорошие отзывы известных писателей. Вы должны помочь мне в перевоспитании этих уголовников.
– Гражданин лейтенант, – возражал я корректно, – вы бы лучше занялись прямой вашей обязанностью. Во-первых, прежде чем людей воспитывать, их, на мой взгляд, следует сначала накормить. Во-вторых, получается, воля ваша, какая-то чепуха. Вы вот, например, ознакомились с делом Васи Харламова, который хлебает лагерную баланду за убийство поросенка, или с делом Архипыча, который на благо общей у нас с вами родины пытался трактор починить, в обход правил, может быть, но ведь трактор – не его собственность, а государственная. И теперь вы призываете, чтобы заключенный из «литераторов» обеспечивал вам перевоспитание лиц, как у вас говорится, «выбившихся из трудовой колеи».
Лейтенант кривил и облизывал губы.
– Да, я ознакомился с делами Харламова и этого, как Вы его называете, Архипыча. Но они не встали на путь исправления, не вступили в секцию внутреннего порядка. А у нас, сами знаете, освобождение – дело серьезное, нужна подпись всей лагерной администрации и образцовая характеристика.
Я вспомнил роман Франца Кафки «Процесс», и он показался мне чем-то вроде рождественской сладкой истории…
Лейтенант доконал нас не только подъемом трудового энтузиазма. Лейтенант был широк во взглядах, но беспомощен в практике их применения. Он повелел всем посещать политические занятия. Ходили и до его приказа, но только стукачи и те из мужиков, кто старался выслужиться, даже Архипыч не ходил. Лиза под страхом карцера заставил явиться всех. Блатные пошли даже с некоторым интересом, ожидая моего столкновения с лейтенантом, хотя я на сей раз был менее всего расположен к словесной дуэли.
Лиза с чувством декламировал советскую конституцию. Когда дело дошло до заверений, что «каждый человек имеет право на свободу слова» и т. д., блатные только усмехнулись, но дальше пошло: «в целях построения социализма гражданам СССР гарантируется право на собрания, митинги, демонстрации». Тут раздался дружный хохот. Кто-то из блатных отметил:
– Ну ты, начальник, даешь! Вон политика уже на три года загарантировали!
Лейтенант покрылся бурыми пятнами.
– Делоне, останетесь мыть полы!
Я поднялся.
– Во-первых, гражданин начальник, я не смеялся, мне от Вашей конституции не до шуток. Во-вторых, полы мыть – это уж увольте. Ищите из числа тех, кто исправно доносит.
– В карцер пойдете! В карцер! – надрывался лейтенант.
– Успокойтесь, гражданин начальник, конечно, пойду. Собственно, ходить-то здесь больше некуда…
Мне дали полмесяца карцера, но «освободили» через три дня. Лейтенант оказался не только «просветителем», но и «гуманистом». Наутро лейтенант, как и положено, объявился в рабочей зоне. Я решил помочь ему в трудной ситуации.
– Гражданин начальник, можно поговорить, так сказать, конфиденциально. Видите ли, в чем дело: мое присутствие во время ваших разъяснений по политграмоте вызывает никому не нужные дискуссии. Ко мне, знаете, обращаются с вопросами. Так что прошу вас справляться без меня с вашей конституцией. А то всем излишние хлопоты выпадают. Кому-то доносить, а вам меня в карцер сажать…
Лейтенант судорожно облизнулся.
– Вы правы, Делоне. Вы только делайте вид, что ходите на занятия, а сами – ну, в другой барак уходите, что ли… Да я, знаете, и сам люблю поэзию. Вот посмотрите, – лейтенант вытащил из кармана истрепанную книжку, в которую были переписаны стихи известных советских поэтов Евтушенко и Вознесенского, «смелые» стихи эпохи развенчания Сталина.
– Знаком, – сказал я.
– Со стихами или лично? – полюбопытствовал лейтенант.
– И со стихами, и лично. Только таких стихов они сейчас не пишут, отбунтовались, хвост прижали, их теперь хоть вместо Вас воспитателями сюда назначай.
Лейтенант пропустил колкость мимо ушей.
– А вы Бёлля читали?
– Читал и тоже лично знаком.
Лейтенант выпучил глаза. Он знал, что я принципиально ничего не выдумываю. Но Бёлль его сразил. Если бы я сказал, что знаком с Иосифом Флавием, на него это произвело бы куда меньшее впечатление. Я ликовал. Начальник попал точно в тест, который я перед ним раскинул, как раскидывают блатные колоду карт, зная, за какую карту схватится неумелый игрок.
С момента, когда между нашей страной и миром чуть-чуть приподнялся знаменитый красный занавес, стали у нас хвататься за что угодно, дабы доказать, что, дескать, и мы культурные, не хуже прочих. Появились переводы современной западной литературы. Многие за любые деньги готовы были купить эти дефицитные книги, чтобы только взглянуть, чем они там дышат на этом недоступном Западе. Но для большинства существование в доме западных незапрещенных романов было своеобразной вывеской или шиком. Почему-то особенно повезло Хемингуэю. Чуть не в каждой «интеллигентной» квартире был вывешен его портрет. И уж как так получилось, я даже не знаю. Но наличие портрета Хемингуэя указывало на то, что хозяин квартиры из породы людей, что держат себя интеллектуалами, горестно опускают глаза при упоминании о сталинских «несправедливостях», но тут же объясняют любознательным иностранцам, что теперь у нас иные времена… Шли шестидесятые годы. Времена и впрямь были несколько иные, но только для кого как. Разгромили свободные чтения стихов на площади Маяковского, уже сидел Кузнецов и другие, хватали за книги Джиласа, Кёстлера, Оруэлла, но это интеллектуалов как бы не касалось. А портрет Хемингуэя красовался непременно.
В те годы одного нашего друга, прекрасного поэта Леню Губанова[1] то и дело забирали в психушку за неугодные стихи. Каждый раз мы с Буковским начинали бегать по нашим знаменитым интеллигентам и умоляли помочь… Интеллигенты отнекивались, за редким исключением. Леня все же выбирался на время из психушек, ходил по компаниям, читал стихи:
Спрячу голову в два крыла,
Лебединую песнь прокашляю.
Ты, поэзия, довела,
На руках донесла до Кащенко.
Леня читал стихи, судорожно закрывая пальцами воспаленные глаза, и по временам злобно косился на неизменного Хемингуэя. Иногда он скандалил, и ежели я корил его за это, он всякий раз оправдывался своеобразно.
– Да Вы что, поручик (он называл меня поручиком в силу дурашливой привычки, укоренившейся между нами, – манеры разговаривать, как бы пародируя стиль XIX столетия), – да Вы что, поручик, не извольте беспокоиться. Что у них за душой, кроме этого, как они его называют, Хэмми! Все это потуги на респектабельное мужество. Вы бы спросили у них о Достоевском!.. В общем, у этой публики все хорошо, только вот корриду смотреть не пущают. Взять бы их на недельку на экскурсию в нашу родную Кащенскую психушку, там пикадоры отменные!