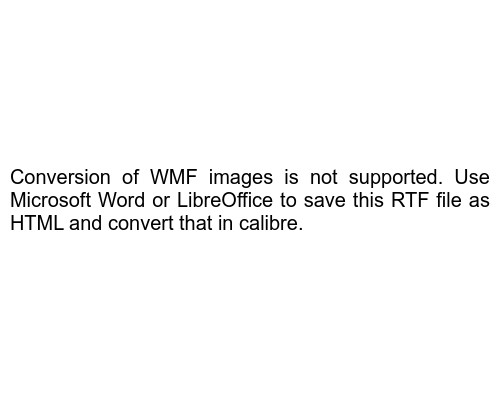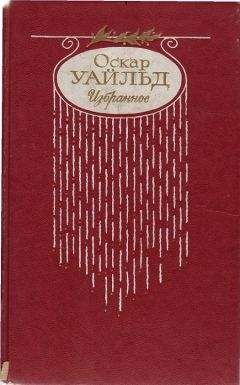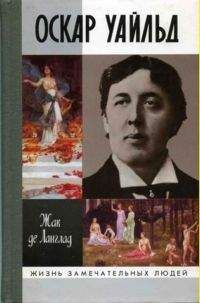и Пьером Луисом, мне становится стыдно. Моя истинная жизнь, моя возвышенная жизнь была связана с ними и людьми, подобными им.
О нынешних ужасных результатах своей дружбы с тобой я сейчас не говорю. Я думаю в основном о качестве этой дружбы в те времена, когда она существовала. Из-за нее я деградировал в интеллектуальном плане. В твоей душе есть зачатки, микроб артистического темперамента. Но я встретил тебя слишком поздно или слишком рано. Не знаю. Когда ты был далеко, у меня всё было отлично. В начале декабря того года, о котором речь, мне удалось уговорить твою мать отослать тебя прочь из Англии, я снова склеил разорванную и расплетенную паутину своего воображения, снова взял свою жизнь в свои руки, и не только дописал три остававшихся акта «Идеального мужа», но и задумал и почти дописал две пьесы совершенно другого рода - «Флорентийская трагедия» и «Святая блудница», но тут ты внезапно вернулся - непрошеный и незваный, вернулся при обстоятельствах, роковых для моего счастья. Я больше не смог вернуться к двум этим произведениям, и они остались незавершенными. Мне не удалось возродить настроение, в котором я их писал. Ты ведь и сам издал поэтический сборник, так что способен осознать истинность моих слов. Но неважно, способен ты на это или нет: это остается ужасной правдой в самом сердце нашей дружбы. Пока ты был рядом со мной, ты воздействовал на мое творчество абсолютно разрушительным образом, я в полной мере стыжусь и виню себя за то, что позволял тебе упорно стоять между мной и моим творчеством. Ты не мог это понять и оценить. Я вообще не имел права от тебя этого ожидать. Тебя интересовали только обеды и развлечения. Ты желал лишь удовольствий, более-менее обычных удовольствий. Именно их жаждал твой темперамент, или ты думал, что именно это нужно тебе в данный момент. Мне следовало запретить тебе являться в мой дом и мои комнаты без особого приглашения. Я виню себя за это, слабости, которую я проявил, нет оправдания. Полчаса наедине с Искусством всегда были для меня важнее, чем круговорот общения с тобой. На самом деле за всю мою жизнь ничто никогда ни в малейшей мере не было для меня столь же важно, как искусство. Но для художника слабость - это преступление, когда эта слабость парализует воображение.
Я виню себя за то, что ты вверг меня в полный и постыдный финансовый крах. Помню, однажды утром в октябре 92-го я сидел в пожелтевшей роще Бракнелла с твоей матерью. Тогда я еще очень мало знал о твоей истинной натуре. Ты прожил со мной в Кромере десять дней, играл в гольф. Разговор коснулся тебя, твоя мать начала рассказывать мне о твоем характере. Она рассказала мне о твоих двух главных недостатках: о твоем тщеславии и о том, что ты, как она выразилась, «совершенно неправильно относишься к деньгам». Прекрасно помню, как я тогда рассмеялся. Я понятия не имел, что первый из этих недостатков приведет меня в тюрьму, а второй - к банкротству. Я считал тщеславие неким изящным цветком, который к лицу юноше, так же, как экстравагантность - добродетели благоразумия и бережливости не были мне присущи. Но через месяц нашей дружбы я начал понимать, что на самом деле имела в виду твоя мать. Ты настаивал на том, чтобы безрассудно сорить деньгами, требовал, чтобы я оплачивал все твои удовольствия - неважно, был я с тобой в это время или нет. Со временем ты вверг меня в большие расходы, из-за тебя расточптельность стала казаться мне неинтересной и монотонной, но ты всё крепче сжимал мою жизнь в кулаке, деньги тратились в основнои на такие удовольствия, как еда, выпивка и тому подобное. Иногда бывает приятно, когда стол красен от вина и роз, но ты вышел за все пределы разумного. Ты требовал без изящества и брал, не благодаря. Ты начал думать, что имеешь право жить за мой счет в изобильной роскоши, к которой не привык, из-за чего твои аппетиты всё время росли, и в конце концов, проигравшись в каком-нибудь алжирском казино, ты просто на следующее утро телеграфировал мне в Лондон, чтобы я перечислил проигранную тобой сумму на твой банковский счет, и больше об этом не думал.
Если я скажу тебе, что с осени 1892-го года до того дня, когда меня отправили в тюрьму, я потратил с тобой и на тебя больше 5 000 фунтов наличными - а ведь мне еще и приходилось оплачивать счета - ты получишь какое-то представление о жизни, на которой ты настаивал. Думаешь, я преувеличиваю? Мои обычные расходы на тебя в обычный день в Лондоне - на ланч, обед, ужин, развлечения, экипажи и тому подобное - составляли 12-20 фунтов, а расходы за неделю возрастали, соответственно, пропорционально, и составляли 80-130 фунтов. За три месяца, которые мы с тобой провели в Горинге, мои расходы (включая, конечно же, аренду) составили 1340 фунтов. Шаг за шагом вместе с конкурсным управляющим мне пришлось вновь пройти через все этапы своей жизни. Это было ужасно. «Простая жизнь и возвышенные мысли» - в то время ты, конечно же, не мог оценить прелесть этого идеала, но такая расточительность позорила нас обоих. Один из самых прекрасных обедов в моей жизни - обед с Робби в маленьком кафе в Сохо, который стоил столько шиллингов, сколько я тратил на обеды с тобою фунтов. Благодаря этому обеду с Робби появился первый и самый лучший из моих диалогов. Идея, название, настроение, воплощение - всё это стоило всего лишь 3 франка 50 сантимов табльдота. А после безрассудных обедов с тобой оставались лишь воспоминания о том, что слишком много было съедено и выпито. То, что я выполнял твои требования, тебе вредило. Теперь ты об этом знаешь. Из-за этого ты зачастую становился жадным и бессовестным, постоянно вел себя по-хамски. Зачастую было вовсе не весело, в этом было мало чести. Ты забыл, не буду говорить - формальную вежливость и благодарность, поскольку формальная вежливость вредит крепкой дружбе, но просто прелесть нежного товарищества, очарование приятной беседы и весь этот благородный гуманизм, который делает жизнь приятной и становится для нее аккомпаниментом - так музыка поддерживает мелодию вещей, заполняет суровые или безмолвные пробелы. И хотя тебе может показаться странным, что человек, находящийся в столь ужасном положении, в