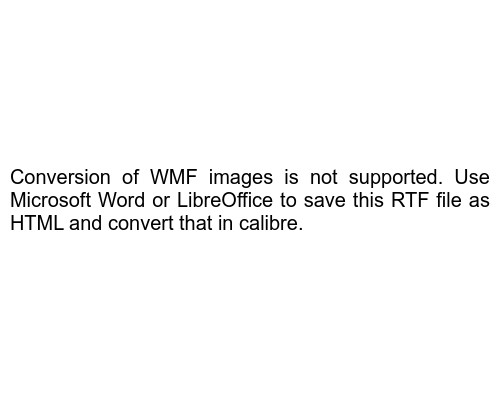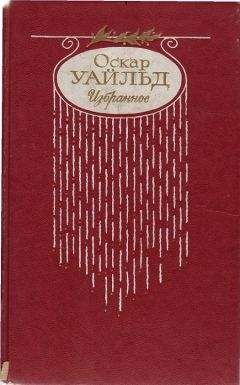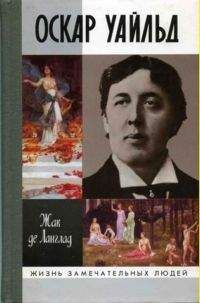как два духа, что мне сулят до сих пор юдоль».
Шекспир
Мечтал - что на холме я в чистом поле,
У ног земля стелилась, как сады
Пустынные, покрытые на воле
Бутонами. Задумчиво пруды
Чернели в тишине; средь белых лилий
Пылал шафран, фиалки в небеса
Пурпурные головки возносили,
И незабудок синие глаза
В сетях зелёных с робостью моргали.
Здесь были неизвестные цветы,
Что лунный свет, иль тень в себя вобрав
Природной нескончаемой печали,
Испили преходящие черты
Закатного мгновенья. Листья трав
Здесь каждою весною утончённо
Лелеял негой звёздный хоровод.
Купаясь в росной свежести ночной,
Тычинки лилий видели влюблённо
Лишь славу Божью в солнце, и восход
Не портил свет Небесный. За стеной,
Чей камень мох съедает бархатистый,
Глядел я в изумлении на край,
И сладостный, и странный, и прекрасный.
Глянь! Юноша сквозь сад прошёл душистый,
Прикрыв глаза от солнца невзначай,
И локоны в цветах его так страстно
Смял ветерок, в руке его кармин -
Гроздь лопнувшего разом винограда.
Его глаза – кристалл, был голый он,
Белей, чем снег нехоженых вершин,
Губ алость – вин пролитая услада
На мраморе, чело – как халцедон.
Взяв за руку, меня он без презренья
Поцеловал с печальной лаской в рот,
И отдал гроздь, сказав: «О, милый друг,
Тебе я покажу мирские тени
И жизни лица. С Юга, глянь, идёт
К нам карнавал, как бесконечный круг».
Но вот, опять, в саду моих мечтаний
На поле золотистом я узрел
Двоих. Один был в полном ликованье.
Прекрасный и цветущий, сладко пел
О девах он, и о любви счастливой,
Что в юношах и девушках жива;
Был взгляд его в огне, внизу игриво
Цепляла ноги острая трава.
Струна златая будто волос девы -
Слоновой кости лютню он принёс.
Как флейты звук чисты его напевы,
Цвели на шее три гирлянды роз.
Его напарник шёл в сторонке дальней, -
Глаза раскрыты были широко,
Они казались ярче и печальней,
И он смотрел, вздыхая глубоко.
И были щёки бледны и унылы,
Как лилии, как мак - уста красны,
Ладони он сжимал с какой-то силой,
И разжимал; власы оплетены
Цветами, словно мёртвым лунным светом.
Он в тунике пурпурной, где змея
Блестела золотистым силуэтом.
Её дыханья огнь увидев, я
Упал в рыданьях: «Юноша прелестный,
Зачем ты бродишь, грустен вновь и вновь
Средь царства неги? О, скажи мне честно,
Как твоё имя?» Он сказал: «Любовь!»
Но первый обернулся, негодуя:
«Тебе он лжёт, его зовут все – Стыд,
Лишь я - Любовь, я был в саду, ликуя,
Один, теперь и он со мной стоит;
Сердца парней и дев я неизменно
Огнём взаимным полнил без обид».
Другой вздохнул: «Желания священны,
Я – та Любовь, что о себе молчит».
лорд альфред дуглас.
Сентябрь 1892 г.
ХВАЛА СТЫДУ
Минувшей ночью в мой альков пришла
Хозяйка наших странных сновидений,
В моих глазах пылало возбужденье
От пламени её. И без числа
Явились тени, и одна звала:
"Я Стыд Любви, верну я пробужденье
Губам холодным, пусть лишь в подтвержденье
Красе моей и мне идёт хвала".
В лучистых тогах (что за дивный вид),
Под звуки флейт, с улыбкой на устах,
Всю ночь мелькали страсти предо мною.
Лишь паруса на призрачных судах
Убрали, говорить я стал с одною:
""Из всех страстей прекраснейшая - Стыд".
ЛОРД АЛЬФРЕД ДУГЛАС
НЕОПУБЛИКОВАННАЯ ЧАСТЬ "DE PROFUNDIS"
Это не вся неопубликованная часть "De Profundis" - лишь та часть, которая была зачитана в суде для дискредитации лорда Альфреда Дугласа. Тем не менее, данный текст составляет более половины неопубликованной части, и его важность абсолютно превышает важность всего отрывка: ничто не пропущено, кроме повторений обвинений - такие повторы ослабляют эффект обвинений и усиливают впечатление ворчливой жалобы вместо бесстрастного осуждения. Если напечатать всё, Оскар Уайльд предстанет в более невыгодном свете - более эгоистичным и мстительным.
Я прокомментировал этот документ таким, каков он есть, в основном ради ясности, потому что он всеми подробностями и практически всеми эпитетами оттеняет портрет, который я попытался нарисовать в этой книге. Как ни странно, Оскар Уайльд неосознанно изобразил себя в этой части "De Profundis" в более невыгодном свете, чем я его запомнил. Я верю, что нарисованный мною портрет - более честный, но это предоставляю решать читателям.
ФРЭНК ХАРРИС,
НЬЮ-ЙОРК, декабрь 1915.
Тюрьма Ее Величества,
Рэдинг
ДОРОГОЙ БОЗИ,
После долгого и бесплодного ожидания я решился сам тебе написать, для твоего блага в той же мере, что и для моего, потому что не хочу думать о том, что провел два долгих года в тюрьме, не получив от тебя ни строчки, никаких вестей или сообщений, кроме тех, которые причиняли мне боль.
Наша злосчастная печальнейшая дружба закончилась для меня крахом и публичным позором, но воспоминания о нашей былой дружбе всегда со мной, меня печалит мысль о том, что отвращение, горечь и презрение займут в моем сердце то место, которое всегда принадлежало любви. Думаю, ты и сам в глубине души чувствуешь, что лучше написать мне письмо, когда я лежу тут в одиночестве на нарах, чем публиковать мои письма без моего разрешения или посвящать мне стихи, не спросив моего согласия, хотя мир не узнает, какие слова скорби, страсти, упрека или равнодушия ты решишь послать мне в качестве своего ответа или призыва.
Я не сомневаюсь, что в этом письме, в котором я должен написать о нашей с тобой жизни, о прошлом и будущем, о сладости, превратившейся в горечь, и о горечи, которая могла бы стать сладостью, будет много того, что сразу же ранит твое самолюбие. Если это произойдет, перечти письмо снова и снова, пока твое самолюбие не будет убито. Если ты найдешь в этом письме то, что сочтешь несправедливыми обвинениями в свой адрес, вспомни, что человек должен быть благодарен за то, что существует вина, которую ему