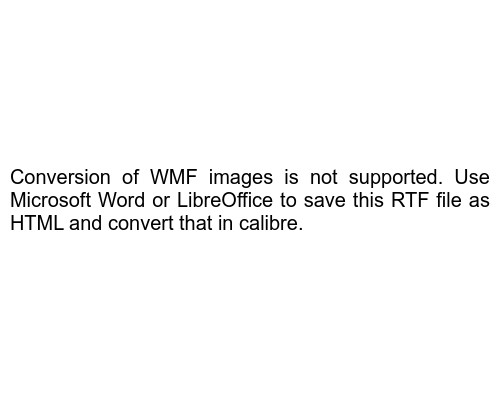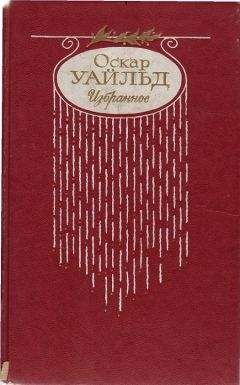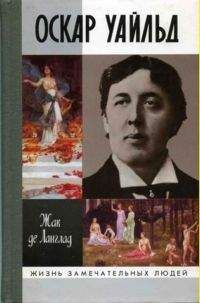которому ты принадлежишь. Жалость, моя былая привязанность к тебе, сочувствие к твоей матери, для которой твоя смерть при таких ужасных обстоятельствах стала бы ударом, который она не смогла бы пережить, ужасающая мысль о том, что столь юная жизнь, несмотря на все уродливые недостатки, дарящая обещание красоты, оборвется столь отвратительно, да и просто требования гуманности - всё это, если нужны оправдания, может служить оправданием того, что я согласился на один единственный, последний разговор с тобой. Когда я приехал в Париж, ты весь вечер плакал, слёзы бежали по твоим щекам, словно дождь, когда мы обедали у Вуазена, а потом ужинали у Пайара. Неподдельная радость, которую ты выказал, увидав меня, то, что ты при каждой возможности держал меня за руку, словно нежное раскаивающееся дитя, твое раскаяние, столь простое и искреннее в ту минуту - всё это заставило меня согласиться возобновить нашу дружбу. Через два дня мы вернулись в Лондон, твой отец увидел, что ты обедаешь со мной в «Кафе-Рояль», сел за мой столик, пил мое вино, и в тот же день написал тебе письмо, начав атаку на меня... Как ни странно, мне вновь навязали даже не шанс, а обязанность расстаться с тобой. Вряд ли нужно напоминать, что я имею в виду то, как ты обращался со мной в Брайтоне с 10-го по 13-е апреля 1894-го года. Три года - слишком долгий срок для того, чтобы ты вернулся. Но мы, живущие в тюрьме, можем измерять течение времени лишь уколами боли, вести дневник горьких мгновений. Нам больше не о чем думать. Мы существуем благодаря страданию, сколь тебе это ни покажется странным. Это - единственное, благодаря чему мы чувствуем, что существуем, и воспоминания о страданиях в прошлом необходимы нам, как гарантия, доказательство существования нашей личности. Между мной и воспоминаниями о радости лежит пропасть не менее глубокая, чем между мной и радостью в нынешней жизни. Если бы наша с тобой совместная жизнь действительно была такой, как думает мир - просто исполненной удовольствий, смеха и распутства, я не смог бы вспомнить из нее ни одного эпизода. Именно благодаря тому, что она была полна мгновений и дней трагических и горьких, зловещих предзнаменований, скучных или ужасающе монотонных сцен и бесчинства насилия, я вижу и слышу каждый отдельный эпизод во всех подробностях, когда практически ничего другого не вижу и не слышу. Здесь люди живут лишь благодаря боли, так что моя дружба с тобой, из-за того, каким образом меня заставляют ее вспоминать, видится мне прелюдией, созвучной меняющимся тональностям мучений, которые я каждый день должен понимать, даже более того - в них нуждаться, словно моя жизнь, что бы ни казалось мне и другим, всё это время была подлинной симфонией, которая двигалась ритмическими рывками к неизбежной кульминации - с этой неизбежностью Искусство трактует любую грандиозную тему... Я собрался обсудить то, как ты обращался со мной в течение трех дней три года назад, не так ли?
Конечно же, я развлекал тебя, выбора у меня не было - развлекать тебя можно было где угодно, только не у меня дома. На следующий день, в понедельник, твой спутник вернулся к выполнению своих профессиональных обязанностей, а ты остался со мной. Тебе наскучил Уортинг, и, уверен, еще больше тебе наскучили мои бесплодные усилия сосредоточиться на пьесе - на единственном, что меня действительно в тот момент интересовало. Ты настоял на том, чтобы я отвез тебя в «Гранд-Отель» в Брайтоне.
В ночь нашего приезда ты заболел - у тебя был тот ужасный жар, который глупцы называют гриппом, это был второй, если не третий приступ. Не нужно напоминать, как я ухаживал за тобой - не только с помощью роскоши фруктов, цветов, подарков, книг и тому подобных вещей, которые можно купить за деньги, но и с помощью любви и нежности, которые, что бы ты ни думал, купить нельзя. Я в течение часа прогуливался по утрам и на час выезжал днем, всё остальное время не покидал отель. Я заказывал для тебя особый виноград из Лондона, потому что ты не хотел есть виноград, который предоставляли в отеле. Всё время что-то придумывал, чтобы тебя порадовать, всегда был рядом с тобой или в соседней комнате, сидел с тобой каждый вечер, чтобы успокоить или развлечь.
Четыре-пять дней спустя ты выздоровел, и я снял квартиру, чтобы попытаться дописать пьесу. Ты, конечно же, последовал за мной. Мы разместились, на следующее утро я ужасно заболел.
Врач определил, что я заразился от тебя гриппом.
У меня нет камердинера, который мог бы мне прислуживать, никого, кто мог бы отправить письмо или купить лекарства, которые прописал врач. Но ты - со мной. Мне нечего бояться. На следующие два дня ты бросил меня совсем одного без какого-либо ухода, рядом со мной никого не было. Дело было не в винограде, цветах и очаровательных подарках: у меня не было даже самого необходимого.
Я остался на целый день один, мне нечего было читать, ты спокойно сказал, что купил книгу, которую я хотел, ее обещали прислать - потом я случайно узнал, что это было ложью от первого до последнего слова. Всё это время ты, конечно, жил за мой счет, разъезжал за мой счет, обедал в «Гранд-Отеле», в моей комнате появлялся только для того, чтобы взять у меня денег. В субботу вечером ты оставил меня совсем без ухода, оставил одного до утра. Я просил тебя вернуться после обеда, посидеть со мной немного. Ты пообещал это сделать, отвечал грубо и раздраженно. Я ждал до 11-ти часов, но ты так и не явился.
В три часа ночи, не в силах уснуть и мучаясь от жажды, я пробрался во тьме и холоде в гостиную, надеясь найти там воду. Там я нашел тебя. Ты в бешенстве обрушил на меня все ужасные слова, которые способен придумать распущенный и необразованный ум. В ужасной алхимической реторте самовлюбленности ты переплавил угрызения совести в ярость. Ты обвинял меня в эгоизме за то, что я надеялся, что ты будешь со мной во время болезни. Обвинял меня в том, что я мешаю тебе развлекаться, пытаюсь лишить тебя удовольствий.
Ты сказал, и я знал, что это - правда, что ты вернулся в полночь лишь для того, чтобы переодеться и снова уйти.
В конце концов я сказал, чтобы ты убирался прочь. Ты сделал вид, что выполнил