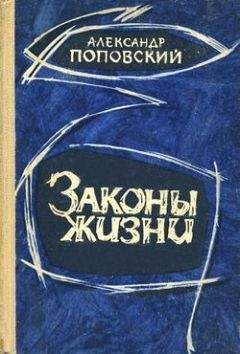Помощница недоумевала. Она не ждала такого оборота. Что он этим хочет сказать?
— Надо, конечно, стремиться, — набралась храбрости аспирантка, — уничтожить самые условия для жизни сорняков… Но ведь это совершенно невозможно… Не можем же мы отказаться от пахоты?
— Разве не можем? — перебил он ее. — А о посевах по стерне забыли? Там земля нам родит без помощи плуга.
— Что говорить об исключениях, ведь такие посевы возможны только в Сибири.
— Вы думаете? — загадочно усмехнулся ученый. — Впрочем, конечно, пока это так..
О Трофиме Денисовиче Лысенко порой можно услышать самые разнородные суждения.
— Он отрицает достижения современной науки, — скажут одни, — ему практический успех милей всех теорий мира.
Многие считают его отчаянным новатором, другие, наоборот, неисправимым консерватором, приверженцем отживших принципов в науке. Ему приписывают легкомыслие, суровую нетерпимость к взглядам других и непростительную склонность к поспешным заключениям.
Нельзя факел правды пронести через толпу, не опалив никому бороды. Лысенко отлично это знает и сносит подчас незаслуженные обиды.
Ни в чем предосудительном противники не могут его заподозрить. Безукоризненно честный в своих отношениях к науке и к людям, он сурово осудит все, что может вызвать подозрения и кривотолки. Когда Колесник однажды заявил на заседании представителям печати, что чеканка хлопчатника повышает урожай до шести — восьми центнеров на гектаре, Лысенко резко оборвал его:
— Зачем вы так говорите? Шесть — восемь центнеров были получены лишь в отдельных колхозах. Что подумают газеты о нас? Честно скажите, сколько центнеров в среднем прибавлял гектар чеканного поля? Ведь не больше двух центнеров, так ведь?
Никто не знает, с каким трудом дается ему каждое решение, как мучителен и сложен его труд. Увлеченный новой идеей, он становится ее пленником. Она вырывает его из круга повседневных интересов, вытесняет из его сердца все, чем он жил. Вчерашние помощники, эксперименты, планы, которыми он дорожил, теперь ему безразличны. Его занимает сейчас другая идея, и ничто больше его не интересует.
Решения ученого приходят не сразу, ни тени поспешности в них. У каждой идеи свои этапы, всему свой черед и пора. Увлекшись мыслью сеять хлеб по стерне, он раньше изучает влияние мороза на семена, исследует источники влаги, степень прохождения воздуха в почву и в самом конце — меры борьбы с сорняками. После первого удачного урожая он ставит себе следующую цель: повысить плодородие почвы…
— Мы не можем похвастать большими рекордами, — говорит Лысенко друзьям, — но ведь никто еще на свете не ставил себе цели получать на стерне какой бы то ни было урожай.
Раз поверив в результаты своих исследований, он никому не позволит усомниться в них. «Некоторым не нравится, — иронизирует он, — что посев по стерне, по невспаханной почве, мы называем наукой. А все-таки это так: мы сделали научное открытие. Впервые посеяли — вышло неплохо, во второй раз — получилось значительно лучше, теперь у нас будет превосходно. Из маленьких пакетиков привезенных семян выросли мешки полновесной пшеницы. Раньше происходило наоборот: ее привозили из России мешками, а оставались пакетики семян…»
На вопрос, не собирается ли он сеять по необработанной стерне пять лет без перерыва, он пожимает плечами: «Почему только пять, а не двадцать? Будем сеять так до тех пор, пока нам практика не скажет — сколько лет на стерне урожаи нарастают и когда они начинают спадать. Ничего от этих опытов мы не теряем: взращивать на невспаханной земле всегда выгоднее, чем на пашне».
Мысль о пользе, о практическом приложении научной идеи не оставляет его в пору самых отвлеченных исканий. Теория, лишенная полезного приложения, никогда его не увлечет. Даже качество метода, пригодность его для науки определяется тем, в какой мере он прост и доступен для всех.
— Ошибаются те, кто думает, что я неосторожен в советах, — говорит своим сотрудникам Лысенко. — Одно дело — эксперимент на делянке, а другое — интересы народного хозяйства. Наука может давать лишь самые проверенные рекомендации. Мы никому не советовали сеять на заведомо засоренных полях, засевать один и тот же невспаханный участок два года подряд, а ведь у себя мы убедились, что это возможно. Убедившись на практике, что по стерне можно сеять три года без перерыва, получая все более высокий урожай, почему не посоветовать сеять по стерне один только раз? Установив на делянках, что сорта яровой и южной озимой пшеницы вызревают в степных районах Сибири, много ли надо храбрости, чтобы посоветовать практикам сеять одни лишь морозостойкие сорта?
Не многие ученые могут похвастать такой выдержкой и осторожностью.
В 1943 году Лысенко пишет народному комиссару земледелия:
«Хотя мы и гарантированы, что рожь хорошо перезимует на стерне, надо все-таки полагать, что растения будут там плохо обеспечены питанием. Неполно разовьются стебель и колос, а весною и летом сильно пойдут сорняки…»
Это писалось тогда, когда в руках экспериментатора были иного характера факты… Посеяв на стерне недавно скошенной ржи озимую пшеницу, ученый весной наблюдал, что ее заглушила выросшая из падалицы рожь. Осыпавшиеся зерна перезимовали на невспаханной земле и дали всходы, погубившие пшеницу. Этот факт подсказал ему, что и рожь можно сеять по необработанной стерне, однако ученый не спешил с заключением. Лишь тогда, когда практика убедила его, что рожь, посеянная по стерне, дает такие же урожаи, как и по пару, он твердо об этом заявил.
К Трофиму Денисовичу Лысенко применимы слова одного из ученых прошлого века: «Он берет в проводники воображение, неизменно прислушивается к нему, но помнит при этом, что нельзя на него положиться…»
В 1938 году Т. Д. Лысенко избрали президентом Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук. О 1937 года он — бессменный депутат и заместитель председателя Совета Союза Верховного Совета СССР.
За научные заслуги ему дважды присуждалась Сталинская премия. Он награжден орденом Трудового Красного знамени, орденом Ленина и званием Героя Социалистического Труда.
По обязанности он должен жить в столице, заседать в своей академии, далеко от полей и теплиц, с которыми так крепко связала его жизнь.
Случается нередко, он устанет, поднимется вдруг и устремится к дверям. У него важное дело, исключительно серьезное, он только что вспомнил о нем. Скоро ли он вернется? Должно быть, не скоро, впрочем, кто знает. Автомобиль унесет его из города к делянкам, где волшебник Авакьян колдует среди вазонов и обезглавленной картофельной ботвы. Там начнется его настоящая жизнь, он будет бродить по полям, между стеллажами теплиц и с интересом расспрашивать помощников, кто что посеял, чего ждет и на что надеется… На время успокоится сердце и наступит удовлетворение.