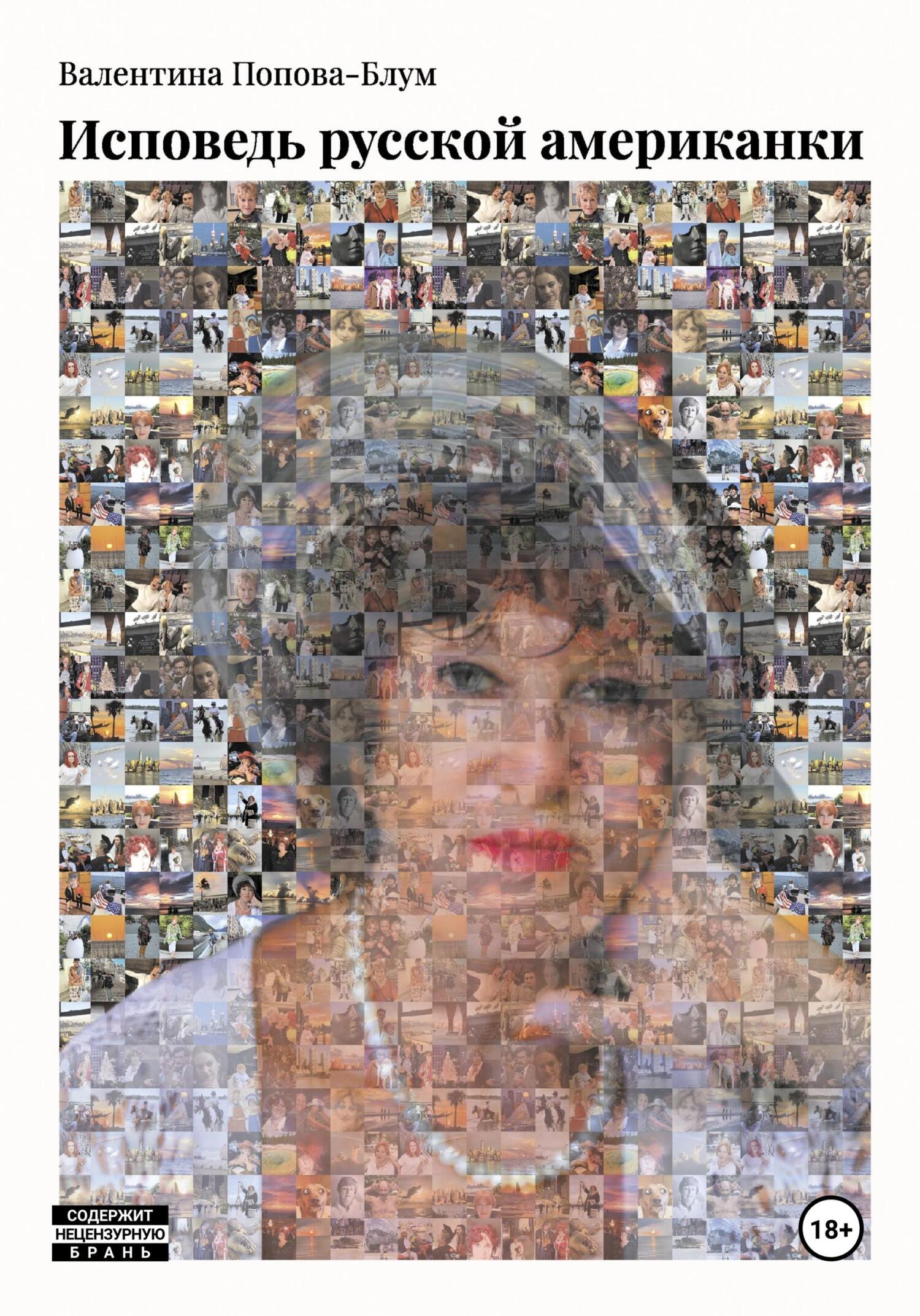рассказывала, но и так очевидно, что досталось ей в том Афгане по полной.
Мать Ксения, тоже в прошлом Ольга, носила военные сапоги, и ремень с латунной пряжкой перетягивал ей пояс вместо монашеского. Скуфейку на голову она тоже надевала на манер пилотки и за обедом по-солдатски засовывала её за ремень, а свою ложку демонстративно доставала из-за голенища сапога. В её келье у икон как святыни лежали офицерские погоны, никто не знал чьи, а спросить не смели.
Её любили и боялись, восхищались и жалели, но упаси Бог показать эту жалость! Она одна могла орать на матушку, обладавшую в монастыре беспрекословной властью, и тогда все опускали глаза и молились, желая провалиться сквозь землю, а матушка отвечала на эти крики коротко и спокойно.
Когда у Ксении случался нервный срыв, то она крыла всех и вся семиэтажным солдатским матом, но иногда у неё делалось такое лицо, будто она сейчас видит ад, самое его пекло, и тогда случайные свидетели предпочитали тихо отползти в сторонку – я видела и знаю, мы с ней жили рядом.
Иногда мать Ксения демостративно стучала своими сапожищами по коридору, а иногда двигалась бесшумно, как кошка, но в ней самой и в её движениях мало было женского – и крепкая фигура, и лицо скорее мужское, с резкими правильными чертами, волевым подбородком и стальными глазами.
Кроме расшатанных нервов, у Ксении болело сердце, к ней регулярно вызывали скорую, иногда её забирали в больницу, но при этом она много работала и великолепно резала по дереву – все киоты в монастыре, рамы на иконах, ларцы для святынь и целые иконостасы вышли из-под её резца!
Ей одной разрешалось, чтобы в келье жил кот – холёный чёрный красавчик по имени Маркиз, любимчик всего монастыря. А ещё с ней подружилась моя Алька, и мать Ксения проявляла к ней много внимания и грубоватой нежности, называла Алевтюней или просто Тюней, и это имечко прилепилось и до сих пор живёт в нашем домашнем обиходе. Так что моя Аля тоже многим обязана Ксении, как и другим сёстрам, у каждой из которых было чему поучиться.
* * *
То моё первое монастырское лето 1997 года вспоминается светлым и солнечным: конечно, хватало забот и хлопот, но я находилась в кругу своих, и ледяная хватка смертельного ужаса, сжимавшая мне сердце, чуть-чуть ослабела, а может, я привыкла.
Человек ко всему привыкает.
Несколько раз нас навещали отец Георгий с матушкой Татьяной, игуменья всегда с теплом их принимала и разрешала всем нашим исповедоваться у батюшки, что нас очень утешало. Вскоре в монастырь перевели служить старенького отца Николая из Никольского храма, и он стал духовником обители, очень добрым и любящим, батюшка Николай никогда ни во что не вмешивался и чуть ли не со слезами сострадания отпускал нам грехи на исповеди.
Редко и коротко заезжал владыка, тогда мы бросали все дела и подбегали под благословение, но он никогда не задерживался – митрополит такое не приветствовал, у них с викарным епископом была давняя конфронтация, мягко выражаясь. Но зато матушка и сама заезжала к владыке в мужской монастырь, и сестёр, когда требовалось, отпускала к нему на исповедь и давала деньги на дорогу. Так что два монастыря непрерывно сообщались между собой, как близкие родственники, ведь многие отцы, братья и сёстры действительно состояли в родстве, и прихожане, и паломники, и духовные чада – все знали друг друга так или иначе и тоже постоянно двигались туда-сюда между двумя центрами духовного притяжения.
В сентябре начался учебный год, а я к тому времени снова заболела, видно, закончилась моя передышка, когда я могла есть всё на монастырском столе, и мы с Алькой вернулись домой, но по-прежнему проводили в монастыре много времени, за нами оставались места в кельях, у меня там хранилась монашеская одежда, нам не благословляли ходить в ней по городу.
Я продолжала петь и читать на клиросе в субботу вечером и на воскресной литургии, приходила на все праздники на неделе, кроме тех дней, когда отец Георгий забирал меня к себе на приход. Он договорился с игуменьей, и матушка отпустила меня помогать, когда надо, и я не только ездила с батюшкой на требы по деревням, пела и читала в храме, но вдобавок писала и реставрировала иконы для бедных сельских приходов.
Чего только я не навидалась за это время – невероятных чудес и жутких событий, высот духа и дикой разрухи. Мы с Алькой подружились со многими удивительными людьми и наслушались от них потрясающих историй. В конце концов, за несколько следующих лет все круги нашего общения причудливо перемешались, мои давние друзья приходили в церковь, монастырские сёстры ездили в деревню к схимницам и наоборот, мы с отцом Георгием вместе посещали старцев, и люди из их окружения тоже становились нашими братьями-сёстрами. Все мы друг за друга молились в ожидании грядущего конца света, и на чтение моего помянника в мелко исписанном толстом блокноте теперь уходило больше часа времени, не считая остального келейного правила.
Дома мы с Алей оборудовали себе жильё в лучших святоотеческих традициях: завесили стены иконами, перед ними всегда горели лампады, мы спали на жёстких досках без постели, не раздеваясь, как положено монахиням, в подряснике с поясом, с покрытой головой и с чётками в руках, вместо подушки Евангелие с Псалтирью, грубое одеяло и домотканый половик прямо на доску, чтобы не залёживаться в постели.
Моя мама сначала возмущалась, а потом привыкла к нашему обиходу, ей тоже стало интересно, ведь к нам постоянно кто-то приходил и приезжал, рассказывая о невероятных событиях и чудесах. Наш дом в центре города оказался между трёх храмов – Никольская церковь, на которую смотрели наши окна, Вознесенский храм, во дворе которого мы жили, и который уже начали восстанавливать, и вдобавок в пяти минутах ходьбы Покровский кафедральный собор с епархиальным управлением. Поэтому кто бы из отцов, братьев и сестёр куда ни шёл и не ехал, все оказывались у нас, чтобы поесть-попить, воспользоваться туалетом, кому-то требовалось переночевать по дороге, так что случались дни, когда чайник на плите кипел непрерывно.
В какой-то момент мы с Алькой сформулировали достаточно ёмкое определение нашего жития-бытия и назвали 32 квадратных метра принадлежащей нам жилплощади Шатуновой пустынью, при этом Воскресенскую церковь во дворе постановили считать домовым храмом, а что? Ведь пасхальный крестный ход проходит к нам вплотную, и у нашего крыльца читают Евангелие, кропят его святой водой, и вообще наш дом построили как богадельню в 1913 году, у нас даже общая охраняемая территория и ночные сторожа, так