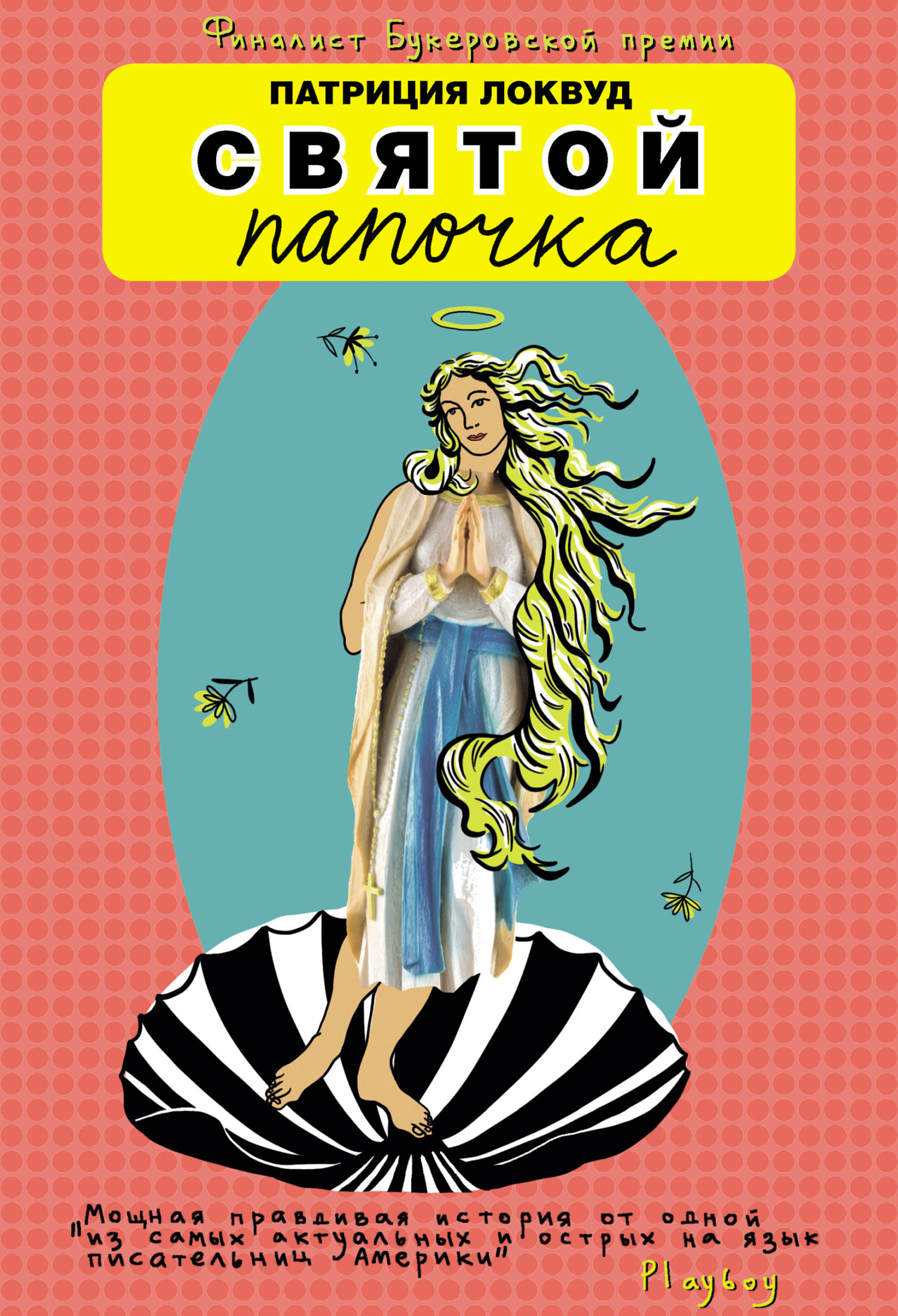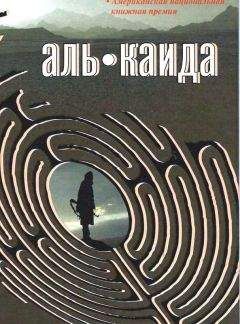наступает нам на пятки, улыбается и кивает бесконечным количеством своих седых голов. В сувенирном магазине музея сокровищ, среди разъеденных морской солью оловянных восьмерок и фальшивых изумрудов, горящих холодным голубым огнем, я беру книгу цитат Хемингуэя о писательстве – она лежит между книгой цитат Хемингуэя о рыбалке и книгой цитат Хемингуэя об охоте на крупную дичь. Очевидно, ничего другого, кроме цитат, он не произносил. И читаю:
«Забудь о своих личных трагедиях. Мы рождаемся обиженными, но, прежде чем ты сможешь писать о чем-то серьезно, тебе нужно пережить страшную боль».
Я громко смеюсь. Мы рождаемся обиженными. Старый добрый Хемингуэй. Старый разобиженный шлюший сиськоглот или как бы он сам, черти б его драли, выразился.
– Вот что происходит, когда президент легализирует табак, – говорит мама, кивая в сторону еще одного Хемингуэя, который проносится мимо нас, вполне живой и ни чуточки не мертвый, собранный воедино этим крепким соленым ветером с моря. Я решаю не говорить ей, что Хемингуэй курил трубку, а не сигары. А также, что своей дерзкой декларативности он научился в «Канзас-Сити Стар» [58].
Всегда было интересно, что лучше посетить, дом писателя или его могилу? Я понятия не имею, где похоронен Хемингуэй (наверняка, в желудке какого-нибудь медведя), но дом точно здесь: с террасой, под сенью шуршащих широкими листьями пальм, по-прежнему населенный шестипалыми кошками. Белые стены, полные воздуха окна, гиды, выдающие одно совершенно правдивое утверждение за другим. Люди толпятся на лестнице, ведущей в его кабинет, и делают одинаковые снимки того места, где думал великий. Вряд ли можно найти еще одну комнату, в которой был бы так жив призрак человеческого мышления. Когда мы выходим из железных ворот, через дорогу мы видим продавщицу – она стоит под тенью зонтика и продает кокосы с просверленными в них дырочками. Они стоят по четыре доллара за штуку, мы покупаем два, не осознавая, что они бездонны и что мы не доберемся до дна, сколько бы не пили их легкое, вяжущее молоко. С первым же глотком из красных соломинок мы узнаем от продавщицы, что кокосовая вода – это «универсальный донорский материал, и ее использовали для переливания крови во время войны!» Казалось бы, невероятно, но это оказывается правдой.
Когда мы с Джейсоном жили в Мировой столице Рыболовов [59], мы ездили в Киз всякий раз, когда нам удавалось наскрести денег – примерно раз в год. Это были одни из первых наших отпусков, которые мы провели наедине друг с другом. Днем мы не вылезали из моря, а все сказанное по ночам не имело значения, это было всего лишь дыхание, наполовину речь, наполовину серебристые пузырьки, поднимающиеся с глубины. Было в этом что-то ламинальное, чувствовалось что-то ламинальное – мы словно дрейфовали между двумя состояниями – вперед-назад сквозь мраморную арку, мы – плоть в движении, мы – волосы русалок и бедра, живущие жизнью волн. Сейчас ночь. Я слушаю тихий рев и вспоминаю о том, как Джейсон однажды назвал длинные волосы «русалочьей болезнью». И улыбаюсь. Дождь накрапывает. Люблю воду.
В среду днем мы едем на пляж. Мама никогда не плавает, поэтому я захватываю для нее из нашего домика дешевый любовный роман под названием «А если он опасен?» Ну ничего себе, кто-то может быть опасен, но пока не прочитаешь – не узнаешь, так ли это. Как будто под мою маму писано. Она с легким отвращением рассматривает полуобнаженного шотландца на обложке, но тут у нее звонит телефон. Она хватает трубку, ее лицо заливает свет чистого предназначения – кто-то нуждается в ней!
– Слушай, Кристи… Так, послушай меня сюда, – говорит она после долгой минуты. – Ты знаешь, сколько малышей не хочет садиться на горшок, потому что они боятся, что будут какать змеями? – еще минута. – Так вот, больше, чем ты можешь себе представить.
Смеясь, мы с Джейсоном убегаем к белой музыкальной линии прибоя.
Свет, заливающий воду, кажется нематериальным, точно фосфен [60]. Как когда ты давишь кончиками пальцев на закрытые веки и перед твоими глазами вспыхивают яркие и упорядоченные лоскутки Вселенной – они кружатся, вихрятся и сталкиваются, впиваясь друг в дружку зубами. Примерно в ста футах от нас, на островке из сросшихся кораллов, стоит небольшая группка людей. Некоторые из них ползают на четвереньках, вглядываясь в лужицы прилива. Мы с Джейсоном плывем к ним и понимаем, что это в основном дети – карабкаются по камням и прыгают с них в воду, как заправские мартышки. Их тела заряжены инстинктами. Они не падают, не поскальзываются. Пусть у них больше нет хвостов, но они по-прежнему служат им рулем.
Среди них есть лидер – девочка-подросток в ярком купальнике. Рыжевато-каштановые волосы падают ей на плечи, прилипая к ним и к шее, как водоросли. Сегодня утром, собираясь на пляж, она нанесла тушь для ресниц, и та размазалась вокруг глаз. Она приветствует меня, уперев руки в бока.
– У вас длинные руки, – замечает она. – Можете достать очки? Упали между камнями.
Мне приятно, что она это заметила, длинные руки – мое единственное достоинство. После короткого колебания, я неуклюже опускаюсь на корточки на неровном сероватом краю кораллового островка и шарю рукой в воде, пока не чувствую, как мои пальцы нащупывают что-то явно искусственное.
– Эй! Держи, – говорю я и вручаю очки тому мальчику, который их потерял.
– Здрасьте! – счастливо отзывается тот.
– Я из Торонто, – говорит девочка. – А вон те дети из Херши, штат Пенсильвания.
Мальчик, чьи очки я только что спасла, говорит, что, когда там поднимается ветер, весь город пахнет шоколадом. Саванна пахла как прессованная бумага, и этот запах ядренее, чем можно ожидать, – напоминает законсервированную кровь.
Это неожиданно, но нас так просто не испугать. Быть может, нам встретились огромные тайные мозги, размазанные по скалам то тут, то там и сияющие зелеными идеями. Ведь в природе есть мозги. Конечно, есть, и время от времени они думают за нас. Мы карабкаемся почти так же проворно и ловко, как дети. Мертвые кораллы отпечатываются розовым на наших ладонях и ступнях. Они распускаются большими серыми веерами, скромными однокамерными росточками. Каждый из них символизирует вдох. Я пытаюсь понять, как можно описать эту живую черноту, мох и нефрит подводного рифа, похожего на спину гигантской морской черепахи. Будь у меня побольше опыта, я бы написала целую историю, описывая в ней лишь палитру самых невероятных цветов: голубой-голубой, голубой-преголубой, розовый и бронзово-телесный, с лимонными завихрениями и с глубоким богатым затемнением в