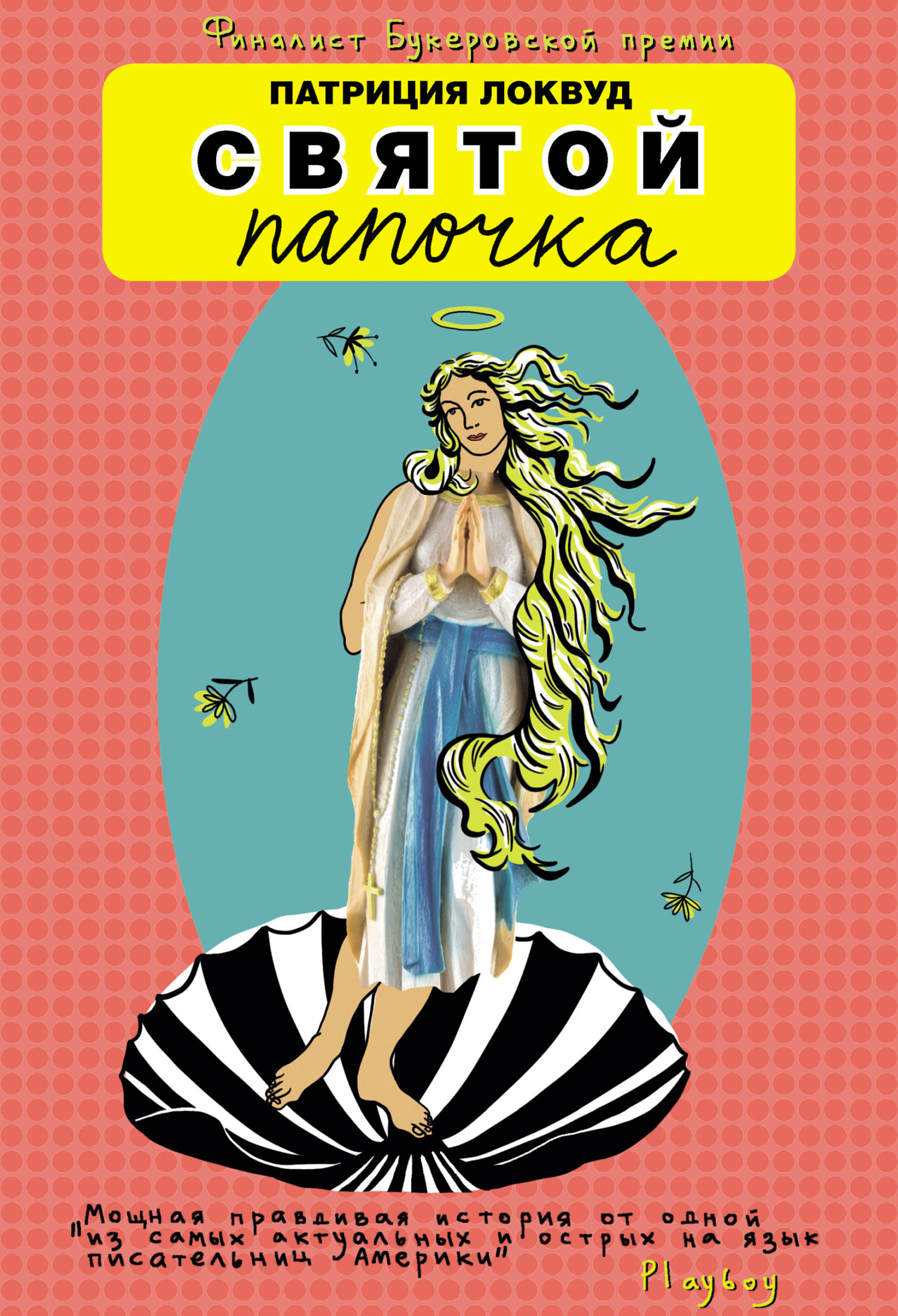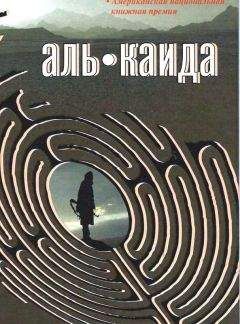черноту, из которой потом льется белое лунное молоко.
– Смотрите, там краб! – восклицает девушка, и правда, клешня краба высовывается из воды и тычет в нашу сторону, яркая, как рубин. Девушка показывает нам колючих фиолетовых ежей и рыб в тигрово-желтую полоску и рассказывает, что раньше тут, говорят, видели скатов.
– Дайте руку, – говорит она и помогает мне подобраться поближе. Кожа у нее гладкая, крепкая, немного пористая. Я сразу вижу, что она принадлежит к племени Заинтересованных людей. У таких людей неловкость рушится под напором фактов, которые нужно выяснить.
– Откуда вы? – спрашивает она. Солнечный свет откровенно вылизывает ее лицо. На этот вопрос я не могла ответить всю неделю.
Пляжи усыпаны золотистыми дублонами девушек, которые только и делают, что днями напролет переворачиваются со спины на живот. Моя мать называет таких людей «солнцепоклонниками», и я всегда воспринимала эти слова буквально и до глубокой старости верила, что религия поклонения солнцу все еще жива. Моя мать стоит среди них на коленях в своем цветастом купальнике и фотографирует море – без конца, снимок за снимком. В такие минуты она хочет лишь, чтобы ей никто не мешал и позволил уже наконец сделать тысячу снимков прекрасного пейзажа и под конец еще один – финальный аккорд счастья – голая задница ее ребенка.
– Моя мать тоже там, – говорит девочка, неопределенно махнув рукой в сторону окруженного соснами пляжа, с таким видом, словно это земля – нечто переменчивое и непостоянное, а вовсе не море. Мне хочется спросить ее, почему она не загорает на пляже, но я ведь тоже не загораю. Я тоже обретаюсь среди камней и того, что однажды станет камнем, блуждаю в бессмысленном жидком центре минуты, зависшей в дуновении ветерка между мгновенным и постоянным, среди чаек, раскаленных камней и перьев, которые однажды превратятся в окаменелость.
Девочка стоит очень прямо, на самой вершине островка, и оглядывает мир с удовлетворением первооткрывателя, человека, который услышал, как вкусно щелкнул правильно подобранный ключ в замке, увидел, как последний пазл идеально встал в головоломку. Она стоит и бесстрашно беседует с самим солнечным светом. Наклоняет к нему ухо, и на свету оно кажется прозрачным. Наклоняется к воде, чтобы разглядеть какую-то блестящую серебристую штуку, а я молча наблюдаю за ней. Часть того, что нам предстоит узнать в этой жизни – кем бы я была, если бы не боялась? Что причинило мне боль, и кем бы я была, если бы этого не произошло?
Джейсон стоит рядом со мной, моргает, и я вижу, как искусственный хрусталик в его левом глазу искрится, как русалочья чешуя – точка соприкосновения видимого и невидимого миров. Я ныряю в разноцветную воду, то холодную, то теплую, и плаваю на спине, пока не перестаю чувствовать, где заканчивается мое тело и начинается море. Когда солнце светит вот так, в лицо, кажется, будто оно хочет что-то сказать. Найди свободное течение, и оно позволит вам поговорить.
Мы задумали еще один пикник на пляже – фирменный махи-махи [61] с кинзой, жареная свинина с карамелизованным луком и креветки со свежими пухлыми булочками – и начинаем расставлять еду на столике под тонкоигольчатыми соснами.
– Хочешь ананасового сока? – спрашиваю я маму, доставая из сумки бутылку.
Она бросает на меня проницательный взгляд монарха, чей дегустатор только что умер от яда.
– Триша. Когда вы с братьями и сестрами сидели на очищающей диете и ели ананасы, вы постоянно мочились в постель, – она делает паузу. – Я и сама тогда почти описалась.
Она листает в памяти фотоаппарата сделанные ею снимки, на которых мы с Джейсоном исследуем коралловый остров. Их, по маминым подсчетам, получилось примерно двести штук.
– Вот ОТЛИЧНАЯ! – взволнованно говорит она, показывая фотографию, изображающую нас сзади. Мне кажется, она с таким же успехом могла быть сделана во время обзорного круиза с китами – так яростно мой «хвост» бьет по воде. А прямо передо мной из воды торчит бирюзовая, как сами Небеса, задница той девочки.
Остаток дня мы потягиваем совершенно отвратительную коладу из скорлупок кокосов, сидя в тени деревьев, усеянных ящерицами. Прямо перед тем, как уйти с пляжа, я замечаю, как игуана взбирается вверх по стволу и мечется между листьями в форме губ, быстрая, как язык. Мама бросает все сумки и следующие двадцать минут целится в нее своим длинным черным объективом. Ящерице нравятся пронзительные звуки, которыми ее привлекает Джейсон, и она поворачивается к нам, подмигивая золотым глазом. Исак Динесен как-то раз написал:
«Однажды я подстрелил игуану. Думал, что смогу сделать из ее кожи столько красивых вещей. И когда я убил ее, произошло нечто странное, то, чего я никогда уже не забуду. Когда я подошел к ней, мертвой и неподвижной как камень, я увидел, как она вдруг выцвела, побледнела, и с последним вздохом из нее вытекли все цвета. Когда я до нее дотронулся, он была серой и унылой, как кусок бетона. Именно кровь, живая и стремительно бегущая по венам, наполняла это создание сиянием и великолепием. Но пламя угасло вместе с душой. Игуана была мертва. Как мешок с песком».
Для нас эта игуана – единственная игуана на свете, как будто других, кроме нее, не существует. Мы должны проникнуться этой встречей до капли, и именно это мы и делаем. Но самое яркое здесь – не сама игуана, такая реальная, что ее можно рассмотреть до последней эмалево-зеленой чешуйки, а драгоценная радость моей матери, которая делает снимки – совершенно бездарные, неумелые, кошмарные и вот наконец – один настоящий, передающий всю суть этого существа. Когда мы любуемся этой фотографией чуть позже, мы видим, что объектив захватил все, что нужно было захватить, отразил все, что можно было отразить. Золотая линза самой игуаны смотрит на маму в ответ и изучает ее. Мама тоже из племени Заинтересованных людей. И ей тоже будет позволено забрать это с собой в рай.
Это наш последний вечер, и мама пьет шампанское. Сверкая в вихре пузырьков, оно поднимается к ее макушке и мерцает там, как диадема или нетленное золото, поднятое с утонувшего испанского галеона. Она источает сияющую благосклонность, суть истинного материнства.
– Все дети на свете – мои сыновья! – восклицает она. – Мужчины! Может, физически они и мужчины, а глянь между ушей – дети детьми!
Когда у нее заканчивается шампанское, я предлагаю ей попробовать мою водку.
– На вкус как авиатупливо, – говорит она и чуть не выплевывает ее обратно в стакан. Какое-то время она прислушивается к себе, прижимая