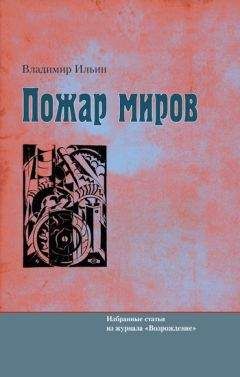Здесь надо различать натуры гениальные от гениев в предельно сильном смысле этого слова, когда мы, прежде всего, ощущаем и переживаем не только силу самого творца, но и способность его в нас самих раскрывать «неизреченные глаголы», то, о существовании чего мы и не подозревали. Подлинный гений имеет власть, так сказать, «делать гениальным» все то, что входит в его сферу. Этим объясняется, почему при встрече с подлинным гением, увлекающим нас своей «вьюгой вдохновения », зависть так же невозможна, как и при встрече с избранником или избранницей нашего сердца: на пире гениального творчества мы всегда так или иначе празднуем брачную вечерю. И кто когда-либо завидовал своему избраннику или своей избраннице? Зависть возможна только тогда, когда гений своим творчеством задевает подлинное царство тьмы, ибо, как некто сказал: «огонь среди ночи опасен для тех, кто зажег этот огонь». Тогда царство тьмы, которое есть прежде всего царство зависти, движет все свои силы навстречу свету, чтобы загасить его и ищет себе сообщников среди посредственностей, которым и сообщает свои гасительские свойства. Возникает та трагедия всех трагедий, которую Пушкин изобразил в пневматическом символе своей пьесы «Моцарт и Сальери». Отец Сергий Булгаков в своем сборнике «Тихие думы» дал превосходное истолкование этой трагедии как трагедии дружбы, убитой завистью. Притом эта зависть беспредметна, пуста и суетна уже по той причине, что Моцарт есть лучшее в Сальери, то, что внешний Моцарт пробуждает в его душе силою любовной и любующейся своим гениальным другом дружбы. Другими словами, зависть к гению есть убийство гения в собственной душе, предельная и самая жуткая, самая непрощаемая форма самоубийства. Это – форма или вариант зависти к Богу-Христу, а значит, и соучастие в грехе богоубийства и распятия, в грехе Иуды Искариота, Анны и Каиафы, со всем сонмом «лукавнующих, пагубных богоубийц».
К тому же, повторяем, это грех не только крайний, но и вполне бессмысленный, ибо завидовать Богу – значит завидовать лучшему в себе, завидовать своему бытию, истине, добру и красоте в самом себе, – со стремлением заменить в себе эти верховные божественно-онтологические ценности ложью, злом и безобразием (уродством).
Мы потому назвали весь этот домирный, мировой и послемировой ужас, поистине ужас адской бездны, трагедией всех трагедий, что человечество, не узнавшее времени посещения своего, само себя изгнало и в тех или иных формах, коллективно или единолично, продолжает изгонять во тьму кромешную и на скрежет зубовный.
Мелкие формы этого греха среди человеческих дробей сказываются как нечто посмеятельное и позорное, как выбрасывание соли, потерявшей силу и попираемой (смехом) всеми проходящими.
Крупные формы этого греха являются перед нами как жестокие трагедии в образе страждущего в нас или в наших ближних добра, добра, понимаемого как совокупность верховных ценностей, – включая истину и красоту. Другими словами, в отображающих эту трагедию частных случаях всегда страждет распятая любовь.
После этого несколько затянувшегося, но необходимого введения в повесть Чехова «Попрыгунья», можно приступить к ее анализу, который теперь уже не представит нам особых затруднений.
Как мы уже сказали, эта повесть есть вариант евангельской темы о неузнании и нежелании узнать время посещения своего.
До того невыговариваемого и непредставимого, упраздняющего время и пространство «нечто», которое мы именуем «вторым и страшным пришествием Господа Иисуса, Сына Человеческого, Сына Божия во славе», Он является каждому из нас в образе наших ближних. Явления эти «многочасны и многообразны», но всегда представляют собой некий вызов на любовь. Это может быть любовь эротическая (брачная), любовь лелеющая – сострадательная (материнская и вообще любовь к слабому и страждущему); это может быть любовь дружеская, в форме взаимной духовной симпатии внесексуального характера; наконец, это может быть любовь -агапа, любовь мистическая в какой угодно форме и при каких угодно обстоятельствах и явлениях партнеров этой любви; важно то, что здесь присутствует дуновение подлинной святости, того, что можно назвать разверзающимся небом.
Притча «О Страшном Суде» (Матф. 25, 31–46) нас предупреждает, что встреч с видимым, воплощенным Богом со времени евангельских событий, кроме как в форме встреч со своим ближним, быть не может, что только на такие встречи – вызовы на любовь – мы должны рассчитывать и только таких встреч должны желать и ожидать. Форма любви здесь безразлична. Однако одно можно и должно сказать: так как любовь неделима, то с одной формой любви приходят и все прочие ее формы и виды со всеми оттенками. Тема эта трудная для философа и богослова, но легкая для сердца, исполненного любви к Богу и ближнему.
Есть такая Ольга Ивановна Дымова, недавно повенчавшаяся с никому не известным молодым врачом, ординатором и прозектором – Осипом Дымовым. Ольга Ивановна – натура «эстетическая», «артистическая» – всюду ищет необыкновенных людей и находит их среди музыкантов, художников и актеров, наполняющих ее салон. Что могут быть необыкновенные люди в области естественных наук и медицины – ей совершенно невдомек. Эта область для нее как бы совершенно не существует. Еще менее существует для нее проблема врача, как органа деятельной любви к ближнему, облегчающего страдания и исцеляющего, по возможности, от болезней силами своей науки.
«Среди этой артистической, свободной и избалованной судьбою компании, правда, деликатной и скромной, но вспоминавшей о существовании каких-то докторов только во время болезни, и для которой имя Дымов звучало так же безразлично, как Сидоров или Тарасов, – среди этой компании Дымов казался чужим, лишним и маленьким, хотя был высок ростом и широк в плечах. Казалось, что на нем чужой фрак и что у него приказчицкая бородка. Впрочем, если бы он был писателем или художником, то сказали бы, что со своей бородкой он напоминает Золя. <…>
Ни одна вечеринка не обходилась без того, чтобы хозяйка не вздрагивала при каждом звонке и не говорила с победным выражением лица: "Это он!", разумея под словом "он" какую-нибудь новую приглашенную знаменитость. Дымова в гостиной не было, и никто не вспоминал об его существовании. Но ровно в половине двенадцатого отворялась дверь, ведущая в столовую, показывался Дымов со своею добродушною кроткою улыбкою и говорил, потирая руки:
– Пожалуйте, господа, закусить.
Все шли в столовую и всякий раз видели на столе одно и то же: блюдо с устрицами, кусок ветчины или телятины, сардины, сыр, икру, грибы, водку и два графина с вином.
– Милый мой метр-д'отель! – говорила Ольга Ивановна, всплескивая руками от восторга. – Ты просто очарователен! Господа, посмотрите на его лоб! Дымов, повернись в профиль. Господа, посмотрите: лицо бенгальского тигра, а выражение доброе и милое, как у оленя. У, милый!
Гости ели и, глядя на Дымова, думали: "В самом деле, славный малый", но скоро забывали о нем и продолжали говорить о театре, музыке и живописи».
Ольге Ивановне не было недостатка в предупреждениях, что это ангельское существо может быть от нее отнято по ее недостоинству. Сначала Дымов заболел рожей и чуть не умер. Потом при вскрытии трупа порезался и тоже можно было ожидать трупного заражения и смерти. На этот раз несчастье миновало снобическую и недостойную супругу. После этого она, что называется, пустилась во все тяжкие, все более и более оттесняя и обижая своего безответного и по-настоящему одаренного мужа. Тот был наивен и кроток как дитя и все сносил, вплоть до гнусного разврата жены. Постепенно он как бы даже оказался чуть ли не на ролях приживала при своем собственном очаге, который содержал на свои же деньги.
«На второй день Троицы после обеда Дымов купил закусок и конфет и поехал к жене на дачу. Он не виделся с нею уже две недели и сильно соскучился. Сидя в вагоне и потом отыскивая в большой роще свою дачу, он все время чувствовал голод и утомление и мечтал о том, как он на свободе поужинает вместе с женой и потом завалится спать. И ему весело было смотреть на свой сверток, в котором были завернуты икра, сыр и белорыбица.
Когда он отыскал свою дачу и узнал ее, уже заходило солнце. Старуха-горничная сказала, что барыни нет дома и что, должно быть, они скоро придут. На даче, очень неприглядной на вид, с низкими потолками, оклеенными писчею бумагой и с неровными щелистыми полами, было только три комнаты. В одной стояла кровать, в другой на стульях и окнах валялись холсты, кисти, засаленная бумага и мужские пальто и шляпа, а в третьей Дымов застал трех каких-то незнакомых мужчин. Двое были брюнеты с бородками, а третий совсем бритый и толстый, по-видимому, актер. На столе кипел самовар.