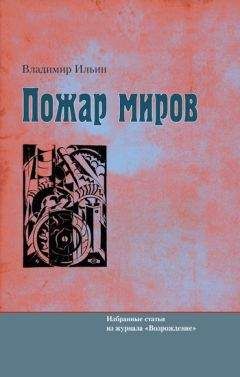Когда он отыскал свою дачу и узнал ее, уже заходило солнце. Старуха-горничная сказала, что барыни нет дома и что, должно быть, они скоро придут. На даче, очень неприглядной на вид, с низкими потолками, оклеенными писчею бумагой и с неровными щелистыми полами, было только три комнаты. В одной стояла кровать, в другой на стульях и окнах валялись холсты, кисти, засаленная бумага и мужские пальто и шляпа, а в третьей Дымов застал трех каких-то незнакомых мужчин. Двое были брюнеты с бородками, а третий совсем бритый и толстый, по-видимому, актер. На столе кипел самовар.
– Что вам угодно? – спросил актер басом, нелюдимо оглядывая Дымова. Вам Ольгу Ивановну нужно? Погодите, она сейчас придет».
Это небрежно, нелюбезное «что вам угодно?», обращенное к хозяину дома – прямо таки восхитительно. Для Дымова это означает предельное унижение и изгнание из собственного дома. Так оно и случилось. Вернулась жена и погнала его за какими-то тряпками, не дав даже поесть.
«Дымов быстро выпил стакан чаю, взял баранку и, кротко улыбаясь, пошел на станцию. А икру, сыр и белорыбицу съели два брюнета и толстый актер».
Для Дымова, с его браком по любви – по настоящей любви! – кончилась жизнь и началось «страстотерпческое житие», завершившееся мучительной болезнью и смертью – в форме бессознательного самоубийства. «Эстетическая» же супруга превратилась в погибшее, но милое создание совершенно классического типа.
Дымову пришлось пережить позор отъезда жены с художником Рябовским на Волгу и ее возвращение, тем только вызванное, что пресытившийся ею крохотный артистик, которому она поклонялась как божеству, просто прогнал ее.
«Когда Ольга Ивановна входила в квартиру, она была убеждена, что необходимо скрыть все от мужа и что на это хватит у нее уменья и силы, но теперь, когда она увидела широкую, кроткую, счастливую улыбку и блестящие и радостные глаза, она почувствовала, что скрывать от этого человека так же подло, отвратительно и так же невозможно и не под силу ей, как оклеветать, украсть или убить, и она в одно мгновение решила рассказать ему все, что было. Давши ему поцеловать себя и обнять, она опустилась перед ним на колени и закрыла лицо.
– Что? Что, мама? – спросил он нежно. – Соскучилась?
Она подняла лицо, красное от стыда, и поглядела на него виновато и умоляюще, но страх и стыд помешали ей говорить правду.
– Ничего… – сказала она. – Это я так…
– Сядем, – сказал он, поднимая ее и усаживая за стол. – Вот так… Кушай рябчика. Ты проголодалась, бедняжка?
Она жадно вдыхала в себя родной воздух и ела рябчика, а он с умилением глядел на нее и радостно смеялся».
Нечего и говорить, что не наученная светлой трагедией всепрощения Ольга Ивановна продолжала свое непотребство чуть ли не на глазах у мужа. Самое замечательное, что Дымов взял на себя, если так можно выразиться, иго иметь вместо жены нечистую совесть. Он понес на себе ее грех.
«По-видимому, с средины зимы Дымов стал догадываться, что его обманывают. Он, как будто у него была совесть нечиста, не мог уже смотреть жене прямо в глаза, не улыбался радостно при встрече с нею и, чтобы меньше оставаться с нею наедине, часто приводил к себе обедать своего товарища Коростелева, маленького стриженного человечка с помятым лицом, который, когда разговаривал с Ольгой Ивановной, то от смущения расстегивал все пуговицы своего пиджака и опять их застегивал и потом начинал правой рукой щипать свой левый ус. За обедом оба доктора говорили о том, что при высоком стоянии диафрагмы иногда бывают перебои сердца, или что множественные невриты в последнее время наблюдаются очень часто, или что вчера Дымов, вскрывши труп с диагностикой "злокачественная анемия", нашел рак поджелудочной железы. И казалось, что оба они вели медицинский разговор только для того, чтобы дать Ольге Ивановне возможность молчать, то есть не лгать. После обеда Коростелев садился за рояль, а Дымов вздыхал и говорил ему:
– Эх, брат! Ну, да что! Сыграй-ка что-нибудь печальное».
Доброта мужа простиралась до такой степени, что он утешал свою жену, «страдавшую» от того, что ей стал изменять ее любовник.
Однажды она сказала Рябовскому (своему любовнику) про мужа:
«– Этот человек гнетет меня своим великодушием!»
Однако этому «гнету» уже приближался конец. Приближались последние дни этого человека – великого и по силе подлинной христианской любви, и по уму и талантам ученого.
«Однажды вечером, когда она, собираясь в театр, стояла перед трюмо, в спальню вошел Дымов во фраке и в белом галстуке. Он кротко улыбался и, как прежде, радостно смотрел жене прямо в глаза. Лицо его сияло.
– Я сейчас диссертацию защищал, – сказал он, садясь и поглаживая колено.
– Защитил? – спросила Ольга Ивановна.
– Ого! – засмеялся он и вытянул шею, чтобы увидать в зеркале лицо жены, которая продолжала стоять к нему спиной и поправлять прическу. – Ого! – повторил он. – Знаешь, очень возможно, что мне предложат приват-доцентуру по общей патологии. Этим пахнет.
Видно было по его блаженному, сияющему лицу, что если бы Ольга Ивановна разделила с ним его радость и торжество, то он простил бы ей все, и настоящее и будущее, и все бы забыл, но она не понимала, что значит приват-доцентура и общая патология, к тому же боялась опоздать в театр и ничего не сказала.
Он посидел две минуты, виновато улыбнулся и вышел».
Это и значит, что Ольга Ивановна стала «мертвой душой», от которой в лице ее мужа ушло все то, что могло послужить к ее спасению. Дальше начинается крест и Голгофа праведника.
Вот что услышала она после позорнейшего визита к своему любовнику, от которого ее почти прогнала ее новая соперница:
«– Мама! – позвал из кабинета Дымов, не отворяя двери. – Мама!
– Что тебе?
– Мама, ты не входи ко мне, а только подойди к двери. – Вот что… Третьего дня я заразился в больнице дифтеритом, и теперь… мне не хорошо. Пошли поскорее за Коростелевым.
Ольга Ивановна всегда звала мужа, как всех знакомых мужчин, не по имени, а по фамилии; его имя Осип не нравилось ей, потому что напоминало гоголевского Осипа и каламбур: "Осип охрип, а Архип осип". Теперь же она вскликнула:
– Осип, это не может быть!
– Пошли! Мне нехорошо… – сказал за дверью Дымов, и слышно было, как он подошел к дивану и лег. – Пошли! – глухо послышался его голос.
"Что же это такое? – подумала Ольга Ивановна, холодея от ужаса. – Ведь это опасно!»
Для «Вавилонской блудницы», держащей «чашу в руке своей наполненную мерзостями и нечистоту блудодейства ее», начался праведный и совершенно особый, не человеческий, Божий суд.
«Без всякой надобности она взяла свечу и пошла к себе в спальню и тут, соображая, что ей нужно делать, нечаянно поглядела на себя в трюмо. С бледным, испуганным лицом, в жакете с высокими рукавами, с желтыми воланами на груди и с необыкновенным направлением полос на юбке, она показалась себе страшной и гадкой. Ей вдруг стало до боли жаль Дымова, его безграничной любви к ней, его молодой жизни и даже этой его осиротелой постели, на которой он давно уже не спал, и вспоминалась ей его обычная, кроткая, покорная улыбка. Она горько заплакала и написала Коростелеву умоляющее письмо. Было два часа ночи».
Это краткое упоминание о времени – отнюдь не праздная деталь, оно указывает на самую глухую и как бы безнадежную пору ночи, когда до рассвета время затягивается в вечность. А дурная вечность уже наступила для Ольги Ивановны, убившей праведника.
«Когда в восьмом часу утра Ольга Ивановна, с тяжелой от бессонницы головой, непричесанная, некрасивая и с виноватым выражением вышла из спальни, мимо нее прошел в переднюю какой-то господин с черною бородой, по-видимому, доктор. Пахло лекарствами. Около двери в кабинет стоял Коростелев и правой рукою крутил левый ус.
– К нему, извините, я вас не пущу, – угрюмо сказал он Ольге Ивановне. – Заразиться можно. Да и не к чему вам, в сущности. Он все равно в бреду».
От Ольги Ивановны прежде всего была отнята та самая красота ее, на которую молился ее муж. Ни тем, ни другим она не сумела распорядиться должным образом и теперь лишается и того, и другого.
Остается лишь бессильный страх, бессильная скорбь, беспомощность, растерянность перед тем ужасным, что она сама же и наделала.
– У него настоящий дифтерит? – спросила шепотом Ольга Ивановна.
– Тех, кто на рожон лезет, по-настоящему под суд отдавать надо, – пробормотал Коростелев, не отвечая на вопрос Ольге Ивановне. – Знаете, отчего он заразился? Во вторник у мальчика высасывал через трубочку дифтеритные пленки. А к чему? Глупо… Так, сдуру…»
Наступила власть иррационального. Изгнанный праведник уходил из мира и нашел тот путь исхода, который и был ему наиболее «к лицу». Здесь только как бы видимость самоубийства; в действительности ему было поведено оставить тот мир и те места, которые были его недостойны. И поэтому всякие разговоры об опасности, о возможности излечения, начала чего-то нового – теперь теряют всякий смысл. В известном смысле, и, особенно, для Ольги Ивановны, теперь все кончено и навсегда.