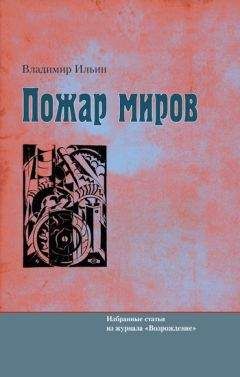«– Опасно? Очень? – спросила Ольга Ивановна.
– Да, говорят, что форма тяжелая. Надо бы за Шреком послать, в сущности».
Но пришел другой посланец, которого никто не видел, но зато все чувствовали.
«Ольга Ивановна сидела у себя в спальне и думала о том, что это Бог ее наказывает за то, что она обманывала мужа».
«Неверующий» как будто бы Чехов – на чем так настаивают «светлые личности» – находит нужную формулу для того, чтобы точно изобразить смысл происходящего.
Бог действительно «наказывает» Ольгу Ивановну, но только особым, Ему одному свойственным и ужасным образом: Он страждет в жертве Ольги Ивановны и нарекает отныне ей имя: богоубийца и распинательница Сына Человеческого.
Чехов подчеркивает «высокую» непонятность происходящего. Еще бы! Ведь в униженном и оскорбленном повторяется трагедия голгофского истощания. Со времени распятия Богу угодно страдать со всеми невинно страждущими, в которых и познается смысл и даже внешний вид Голгофских мук.
«Молчаливое, безропотное, непонятное существо, обезличенное своею кротостью, безхарактерное, слабое от излишней доброты, глухо страдало где-то там у себя на диване и не жаловалось. А если бы оно пожаловалось, хотя бы в бреду, то дежурные доктора узнали бы, что виноват тут не один только дифтерит. Спросили бы они Коростелева: он знает все и недаром на жену своего друга смотрит такими глазами, как будто она-то и есть самая главная, настоящая злодейка, а дифтерит только ее сообщник».
И теперь, в свете вечности, все то, что переживалось когда-то «на Волге» как некоторая «идиллия любви» и «даже как красота», не только превращается в отвратительную пошлость, но и покрывается последним проклятием из уст той самой, которая и есть главная виновница.
«Она уже не помнила ни лунного вечера на Волге, ни объяснений в любви, ни поэтической жизни в избе, а помнила только, что она из пустой прихоти, из баловства, вся, с руками и с ногами, вымазалась во что-то грязное, липкое, от чего никогда уж не отмоешься…»
Настоящая переоценка ценностей начинается у подножия Голгофы.
«Ах, как я страшно солгала! – думала она, вспоминая о беспокойной любви, какая у нее была с Рябовским. – Будь оно все проклято !..» И действительно, «все это», как «дар» проклятейшего человекоубийцы, которого она сделалась сообщницей, – проклято навсегда.
«В четыре часа она обедала вместе с Коростелевым. Он ничего не ел, пил только красное вино и хмурился. Она тоже ничего не ела. То она мысленно молилась и давала обет Богу, что если Дымов выздоровеет, то она полюбит его опять и будет верною женой. То, забывшись на минуту, она смотрела на Коростелева и думала: "Неужели не скучно быть простым, ничем не замечательным, неизвестным человеком, да еще с таким помятым лицом и с дурными манерами?" То ей казалось, что ее сию минуту убьет Бог за то, что она, боясь заразиться, ни разу еще не была в кабинете у мужа. А в общем было тупое, унылое чувство и уверенность, что жизнь уже испорчена и что ничем ее не исправишь»…
Казнь над виновной и праведный суд Божий уже свершились, а дальнейшее – есть погребение убитого и убийцы.
«Когда Ольга Ивановна в другой раз вышла в гостиную, Коростелев уже не спал, а сидел и курил.
– У него дифтерит носовой полости, – сказал он вполголоса. – Уже и сердце неважно работает. В сущности, плохи дела.
– А вы пошлите за Шреком, – сказала Ольга Ивановна.
– Был уже. Он-то и заметил, что дифтерит перешел в нос. Э, да что Шрек! В сущности, ничего Шрек. Он Шрек, я Коростелев – и больше ничего.
Время тянулось ужасно долго. Ольга Ивановна лежала одетая в неубранной с утра постели и дремала. Ей чудилось, что вся квартира от полу до потолка занята громадным куском железа, и что стоит только вынести вон железо, как всем станет весело и легко. Очнувшись, она вспомнила, что это не железо, а болезнь Дымова.
"Nature morte, порт… – думала она, опять впадая в забытье, – спорт… курорт… А как Шрек? Шрек, грек, врек… крек. А где-то теперь мои друзья? Знают ли они, что у нас горе? Господи, спаси… Избави. Шрек, грек…"
И опять железо… Время тянулось длинно, а часы в нижнем этаже били часто. И то и дело слышались звонки; приходили доктора… Вошла горничная с пустым стаканом на подносе и спросила:
– Барыня, постель прикажете постлать?
И, не получив ответа, вышла. Пробили внизу часы, приснился дождь на Волге, и опять кто-то вошел в спальню, кажется, посторонний. Ольга Ивановна вскочила и узнала Коростелева.
– Который час? – спросила она.
– Около трех.
– Ну что?
– Да что! Я пришел сказать: кончается…
Он всхлипнул, сел на кровать рядом с ней и вытер слезы рукавом. Она сразу не поняла, но вся похолодела и стала медленно креститься.
– Кончается… – повторил он тонким голоском и опять всхлипнул, – умирает, потому что пожертвовал собой… какая потеря для науки! – сказал он с горечью. – Это, если всех нас сравнить с ним, был великий, необыкновенный человек!»
Ольга Ивановна, так долго искавшая среди «Рябовских» необыкновенного человека, наконец все же нашла его, но уже было поздно.
– Какие дарования ! Какие надежды он подавал нам всем! – продолжал Коростелев, ломая руки. – Господи Боже мой, это был бы такой ученый, которого теперь днем с огнем не найдешь. Оська Дымов, Оська Дымов, что ты наделал! Ай-ай, Боже мой!
Коростелев в отчаянии закрыл обеими руками лицо и покачал головой.
– А какая нравственная сила! – продолжал он, все больше и больше озлобляясь на кого-то. – Добрая, чистая, любящая душа – не человек, а стекло! Служил науке и умер от науки. А работал как вол, день и ночь, никто его не щадил и молодой ученый, будущий профессор должен был искать практику и по ночам заниматься переводами, чтобы платить вот за эти подлые тряпки!
Коростелев поглядел с ненавистью на Ольгу Ивановну, ухватился за простыню обеими руками и сердито рванул, как будто она была виновата.
– И сам себя не щадил, и его не щадили. Э, да что, в сущности!
– Да, редкий человек! – сказал кто-то басом в гостиной».
Теперь для Ольги Ивановны начинается то, о чем так хорошо сказано у Пушкина:
В уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток;
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.
Чехов в «Дуэли» уже раз использовал это псаломное стихотворение Пушкина для передачи случая, аналогичного, но все же не столь тяжелого, как нынешний, ибо там была оправдавшая себя надежда на исправление. Здесь же поистине все кончено, и кончено крепко, раз навсегда, как вечность.
«Ольга Ивановна вспомнила всю свою жизнь с ним от начала до конца, со всеми подробностями, и вдруг поняла, что это был в самом деле необыкновенный, редкий и, в сравнении с теми, кого она знала, великий человек. И, вспомнив, как к нему относились ее покойный отец и все товарищи врачи, она поняла, что все видели в нем будущую знаменитость».
Теперь для нее наступило то, о чем говорит Евангелие: «камни возопиют».
«Стены, потолок, лампа и ковер на полу замигали ей насмешливо, как бы желая сказать: «прозевала! прозевала!» Она с плачем бросилась из спальни, шмыгнула из гостиной мимо какого-то незнакомого человека и вбежала в кабинет к мужу. Он лежал неподвижно на турецком диване, покрытый до пояса одеялом. Лицо его страшно осунулось, похудело и имело серовато-желтый цвет, какого никогда не бывает у живых. И только по лбу, по черным бровям, да по знакомой улыбке можно было узнать, что это Дымов. Ольга быстро ощупала его грудь, лоб и руки. Грудь еще была тепла, но лоб и руки были неприятно холодны. И полуоткрытые глаза смотрели не на Ольгу Ивановну, а на одеяло.
– Дымов! – позвала она громко. – Дымов!
Она хотела объяснить ему, что то была ошибка, что не все еще потеряно, что жизнь еще может быть прекрасной, что он редкий, необыкновенный человек, что она будет благоговеть перед ним, молиться и испытывать священный страх…
– Дымов! – звала она его, трепля его за плечо и не веря тому, что он уже никогда не проснется. – Дымов, Дымов!
А в гостиной Коростелев говорил горничной: – Да что тут спрашивать? Вы ступайте в церковную сторожку и спросите, где живут богаделки. Они и обмоют тело и уберут – все сделают, что нужно!»
Все происшедшее в этой удивительной повести есть неопровержимый христианский аргумент в пользу бытия Божия, ибо в Евангелии Бог есть страждущая любовь.
Этого не понять тупицам, мертвецам духовным, которые бормочут свой «бобок» об «атеизме Чехова» и об атеизме вообще…
И я с вековою тоскою,
Как волк под ущербной луной,