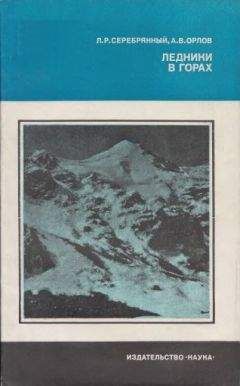А мне грустно. И грустно не от того, что веселится гоп-компания, и пусть услаждают душу, коли им так радостно; но от того, что ерничают-то они опять не над господами, не над теми, кто "в герметическом капитолийском ордене" в своей закрытой столовке пожирает отбивные по сто долларов за штуку, кто устанавливает на Руси новое крепостное право, кто на рожках и хвосте носит по ордену "За заслуги перед Отечеством" (чтобы внести смуту в их благополучие), а над самыми малыми мира сего, кого прежде всегда прижаливали, о ком рассказывали "Шинель" и"Муму", "Привычное дело" и "Последний срок", на ком вострили к состраданию свою душу многие поколения православных читателей. И ведь как умели они смеяться, наши предки, не зная одесских анекдотов; а как любили петь, не слыша бульварных песенок московских гитаристов.
"Деспотия герметиков" в России не имеет себе подобия в мире. Она не походит на сталинскую, когда действительно за вольномыслие могли легко упрятать в Сибири, а то и в могилевскую, но зато, имея голову на плечах, можно было вольно ходить ночами по Москве, никого не боясь, не знать запоров на дверях, не бояться ближнего, за усердие получать отличия; сейчас можно гундосить на кухне, что тебе взбредет в голову, даже кричать с балкона, только не в ночное время, печататься в газетенке тиражом в пять тысяч экземпляров, гордо нести в толпе плакат: "Ельцин — иуда"; но зато ты все время ждешь откуда-то неведомой грозы, времени "Ч", прячешься в квартире, как в сейфе, тебя могут измордовать средь бела дня, безнаказанно испачкать в бульварной газетенке только потому, что ты не понравился своей фамилией записному шелкоперу, у которого молоко на губах еще не обсохло. Нравы верха, как эпидемия по ветру, разлетелись по городам; всеобщее попустительство при тайном сексотстве; вроде бы свобода слова, но каждое заносится в невидимые гроссбухи, чтобы после предьявить, как улику; экран телевизора не потухает сутками, но туда допускают лишь по разнарядке герметиков; все за всеми следят, все учитывают на черный день, ведут досье, авось пригодится, принесет прибыль иль можно обменять на другую спецкарту; противников отстреливают небрежно, как каплунов. Их тут же и забывают, потому что на другой день отстреливают новых, а президент не дает из Кремля команду рыдать всем.
Удивительно то амикошонство, то панибратство, с каким журналисты пишут о России, о людях заметных и деятельных; нахально подстригая их под себя, а то и вовсе изваживая в грязи. Каждое слово с подковыркою, намеком, де и у тебя, дорогой, не все "вась-вась" и рыло в пушку, с похвальбой по-хлестаковски, ведя расчет на то, что люди слабодушны, всяк хочет успеха, известности; я вот о тебе соблаговолю черкануть пару строк, сделаю милость, снизойду, но из простого интересу и любопытства (потому что мне так хочется), возьму и капну яду из черниленки, и ты, друг ситный, стерпишь пакость, ибо славы тебе хочется куда пуще стыда и позора. Проглотишь, миленький, а при встрече и руку пожмешь, и поклонишься, по-собачьи заглядывая в глаза, да еще и хвалиться станешь, де о тебе так издевательски написали, "прославили на весь мир".
Такие нравы не минули и литертуры; что было прежде бесчестием, ныне стало в порядке вещей. Даже среди близких мне людей вдруг укоренилось мнение, что чем грязнее обольют помоями, вывалят в смоле и перьях, тем лучше для самого писателя; де, это реклама, прочитав мнение шелкопера, твою книгу тут же схватят, а значит, тираж разойдется и тебе станет прямой прибыток. А грязь-де к чистому человеку не прильнет, хоть горшком назови, только в печку не ставь.
А если ты консерватор? Если тебе куда милее привычные вкусы предков, их обычаи, их нравы? И если от них никуда не деться? И не просто бы никуда не деться, но вкусам этим и привычкам страшно изменять, да и нет нужды, не хочется к кому-то пристраиваться даже и во вред себе, перелицовывать себя; ведь сказано, что дьяволу стоит лишь ноготок твой ухватить.
Помнится, девушке, потерявшей честь на стороне, пачкали смолою ворота, и сколько горя тогда было родителям, сколько позора, сколько обиды выпадало; хотя, казалось бы, по-нынешнему, да разотри и забудь; подумаешь, днем раньше потеряла твоя девка невинность, все равно распечатают. Ну да честь-то куда деть, а? А имя, которым всегда стоило дорожить, ибо если Господь и знает тебя и надзирает за тобою, различив в мировых барханах песка и тебя-пылинку, то лишь по имени твоему, в котором расписано все твое прошлое и будущее…
Ну что за жанр я выбрал? Вроде бы беседа, но пошли сплошные вольности. А вон у иных ныне пишущих вообще неизвестно, что за направление мыслей? Хлопанье крыльями, кукареканье, плутовство, слововерченье: так принято теперь писать, так велел писать " бомонд герметиков", наблюдающий свободу, собирающийся в закрытом клубе за кружкой пока закрытого для масс особого пива "три шестерки". Мода-с, господа, в каждой бульварной газетенке так пишут-с. Любимый стиль герметиков, другого они не понимают, трудно читать.
А мы назло, неведомо кому, пишем по старинке для тех, кто думает по-русски, ведет себя по-русски. И пьем простецкое пиво "Жигулевское", пьем и поминаем в песне про Стеньку. И хотелось бы крутого пивца, медового, например, да не хватает грошей; нужда заела….
И действительно, нужда любому человеку выю склонит, заставит под ногами искать золотинку. А еще семья подпирает, воспоминания гнетут, все мыслится, что ровная жизнь скоро вернется, а она хвост показала, — и адью. Писателю нынче край, с него последнюю шкуру снимают, хоть зубы на полку, ибо закрытый "союз герметиков" лелеет и холит лишь своих, хоть и бесталанных, но зато нахальных, бестрепетных и бесхребетных, кто при случае быстро вскинет над головой плакатик "Раздавить гадину", чтобы толкнуть президента на новый героический поступок. Такой плакатик — это печать благонамеренного, ярлык на "дворянство", т. е. быть при Дворе. У них везде над столом, где висел прежде портрет Пушкина, теперь Приставкин. Отпраздновав юбилей, сбросили поэта с корабля современности: перегрузка, слишком велик, кренит набок, можно потонуть с этим "антисемитом".
Казалось бы, богатая нынче книжная нива, косить-не выкосить, издательств расплодилось, как грибов: значит, книжное дело выгодное, но печатают лишь своих, кто в обойме иль кто преуспел в легком жанре желтого чтива, так любимого у "новых русских". Литератор консервативных взглядов — батрак, поденщик, живет на сухарях и воде, и никто из "герметиков"не поинтересуется: а как ты, братец, существуешь, да и жив ли ты пока? Лучше бы ты помер поскорее, так и дело с концом, меньше хлопот. Ибо Верхам выгодно, чтобы русский писатель согнулся в корчужку, замер, оплешивел и огорбател, порастерял волос и голос, стал похож бы на Жванецкого, виновато бы смотрел в пригоршню приказчика и боялся надсмотрщика; цензуры нет, но есть система духовных резерваций и таможен, когда копаются в твоей душе до самого донышка, а отыскав далеко спрятанную крупицу неблагонадежности, тебя отволакивают в отстойник.
Вот почему и не принимают закон о творческих союзах; тогда бы пришлось платить гонорары, печься о судьбе творческих людей, разрабатывать от сорняка культурную пашню, прислушиваться к искреннему, вовсе не радостному голосу писателя, отличать головню и овсюг от янтарного пшеничного зерна, ложь от правды, а совесть от бесчестия. А гонорары, батюшки мои, гонорары, смех и слезы, милостыня нищему. Хорошо, если на буханку хлеба и пакет молока заработаешь в день, как бы ни трудился ты, грешный. Так еще со всех сторон попреки, упреки, вопли: ату его, ату, за ляжки — кусь, за глотку — хвать! Догнали... И недоуменный вопль на всю Ивановскую: "Еще жив курил-ка-а!".
Герметики, поклонившись лукавому, строят свою Россию, во всем противную нам, где вольному человеку не достанется места, где жалости по маленькому человеку, Акакию Акакиевичу Башмачкину, тоже не будет до той поры, пока попускает Бог.
А русская душа, как и в давнюю революцию, вновь расколота ожиданием счастья (оптимизмом) и унынием от потерь (пессимизмом); вот убежали, смеясь, от чего-то надежного, покой обменяли на бурю, в которой погибают все надежды.
И как строить государство с таким растерзанным человеком? — думают герметики, отстраивая для народа герметическое стойло.
14 октября 2002 0
42(465)
Date: 15-10-2002
Author: Елена Хрущева
НА БЕЛОМ КОНЕ
Было время, когда, по легенде, в Вологде оставался один лишь резной палисад. Но художник Веселов упрямо писал деревянные домики. Домики с палисадом, беседкой, на каменном подклете, уютные частные жилища и унылые бараки. Почтенные вологодские, рафинированные тотемские, теплые устюжанские и суховатые великоустюжские. Зимой и летом, весной и осенью.