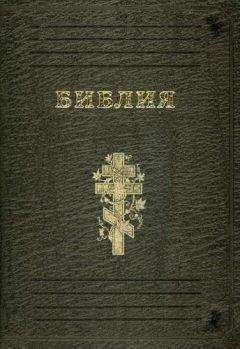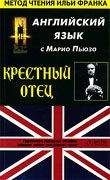Скорка:
– Я бы хотел упомянуть о книге, которую написал один мой дорогой друг, выдающийся раввин Шмуэль-Авигдор Га-Коэн. Он был намного старше меня. Это один из основателей израильского пацифистского движения «Мир сейчас». Он во многих отношениях был революционером. Шмуэль написал биографию другого легендарного раввина – Авраама Ицхака Га-Коэна Кука, который в первой половине XX века сказал: все те, кто строил и развивал кибуцы, хотя и были крайне далеки от традиций, совершали религиозный акт, так как они возвращались на землю Израиля, когда она все еще находилась под властью турок и постепенно превращалась в болото. Этот раввин полагал, что возвращение к благородному труду земледельца – труду, к которому в Европе евреев не допускали, – это религиозный акт. Сказать такую вещь – все равно что преклонить колени на евангелическом богослужении, Кук двигался против течения. Кстати, Шмуэль так и назвал свою книгу – «Человек, который шел против течения». В этом контексте я очень высоко ценю перемены, осуществленные вами: то, что президент приветствует всех религиозных иерархов, то, что некоторые из иерархов произносят проповеди на молебне Te Deum. Нелегко что-то изменить в лоне настолько старой традиции. Я приветствую ваши попытки разорвать застарелый порочный круг. Именно в этом состоит наше дело, наша задача.
29. О том, какое будущее ожидает религии
Скорка:
– У религии всегда будет будущее, ведь она отражает глубокие поиски смысла жизни, религия – результат самопознания и встречи с Богом. Пока бытие остается загадкой, пока человек бьется над вопросом: «Почему в природе все упорядочено? Может быть, ее упорядочил кто-то?», пока эти вопросы звучат – а мне кажется, они вечны, – будет существовать и концепция религии, так как она предполагает отчаянный зов. Человек взывает, пытаясь понять: «Кто я?» Пока на эти вопросы нет ответа, у человека сохранится желание приблизиться к Богу, а это, в сущности, и есть мистика. Другой вопрос, в каких формах проявится религия в будущем. Я ни капли не сомневаюсь, что религиозность сохранится, вопрос в том, в какой форме она будет организована и проявлена. Главный вопрос – уцелеют ли религиозные институты в том виде, какими мы их знаем, продолжится ли развитие традиционных религий. Тут в процесс включаются и другие переменные.
Бергольо:
– То, что вы сказали, рабби, созвучно словам св. Августина: «Господи, Ты создал нас для Себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе». Самое важное в этой фразе – слова «не знает покоя». Когда ты хочешь здраво, честно разобраться в том, что чувствуешь, в тебе просыпается глубокая неуспокоенность, влекущая к запредельному, к встрече с Богом, как вы говорите. Но прямо в момент, когда мы переживаем эту встречу, начинаются новые искания, и так повторяется вновь и вновь, и с каждым разом наши переживания все глубже. Мы предпочитаем описывать эту неуспокоенность как дыхание Бога, которое мы носим внутри, как Его отпечаток в наших душах. Во многих случаях это ощущение возникает даже у тех, кто вообще не слыхал о Боге, либо у имманентистов[135] или противников религии: человек вдруг сталкивается с чем-то, что его преображает. Пока существует эта неуспокоенность, будет существовать и религия, будут способы восстановить связь с Богом. Строго говоря, само слово «религия» восходит к идее установления связи с Господом, установления в процессе поиска. Если же какая-то религия сводится только к ритуалам, если в ней нет подобного содержимого, то она обречена на отмирание, поскольку забивает тебе голову ритуалами, но ничего не дает твоему сердцу. Я, как и вы, считаю, что религия не исчезнет, так как неуспокоенность – врожденное свойство человеческой природы. Просто надо посмотреть, в каких формах эта неуспокоенность проявится в будущем. Поживем – увидим. Как представляете это себе вы?
Скорка:
– Очень трудно вообразить наглядно, как продолжится история человечества. Религия – это можно наблюдать уже в библейских рассказах – начинается, в сущности, с отдельных людей: Авраама, Моисея, пророков… Они приближаются к Богу, а Он велит им вернуться к народу, так как сближение с Богом должно спроецироваться на общество. Этот изначальный зародыш, этот индивидуальный диалог начинает переплетаться с повседневной жизнью, с иными понятиями и другими интересами; и оказывается, что этот взаимообмен приносит только пользу, ведь если религия, неспособна проявить себя в повседневной жизни, она остается всего лишь философской забавой. В понимании иудаизма религиозность – это образ жизни: «делать доброе и угодное пред очами Бога», как гласит Тора. Но едва мы переносим духовность в плоскость прагматизма, вносим ее в повседневную жизнь, как начинают возникать различные интересы, которые примешиваются к феномену религии. Во многих случаях эти интересы берут верх над непорочностью и красотой встречи с Богом и в конце концов ее искажают. Поэтому говорить о будущем религий – значит говорить о будущем человека, о будущем ходе истории, делать прогнозы, очень близкие к политическим и социологическим. Я слышу, что некоторые христиане говорят о возвращении к своеобразной общинной структуре. Мне близка эта концепция. Идея в том, чтобы вместо пирамидальных мегаинститутов вернуться к малым общинам, которые сами в себе подпитывают духовность. Попробовать создать более автономные структуры. Не знаю, слышали ли вы об этой концепции; мне понравилась идея работать не с гигантскими людскими массами, а с объединениями нескольких семей, которые во все вкладывают колоссальную энергию и взаимодействуют с другими группами своих единоверцев, координируют усилия для осуществления мегапроектов – по идее, так можно заниматься благотворительностью, – но сохраняют свою автономию. Также я слышал, что в Европе некоторые начинают искать свою идентичность в дофиникийских эпохах; по-моему, интереснейшая тема, так как вместо того, чтобы проецировать идеи в будущее, люди углубляются в поиски своих корней. Как это повлияет на религиозность европейцев? Если говорить о том, что происходит внутри иудаизма, то у нас в Латинской Америке наблюдается возрождение крайностей – тяга либо к крайне правому, либо к крайне левому флангам. А срединный путь потерян. Что эта текущая ситуация породит в будущем? Честно говоря, не знаю. Я всегда с интересом наблюдаю, как обстоят дела у соседей, в христианской церкви, так как в разных религиях феномены возникают параллельно. Я смотрю, что происходит в «доме напротив», и вижу сильнейший кризис, возникновение новых церквей, которые, возможно, стремятся отделиться от централизованной системы, не отвечающей их чаяниям. Начиная с Французской революции, происходил возврат к раздробленности, к националистическим движениям. За истекший период были также попытки воссоздать великие империи, но рано или поздно эти империи рушились самым кошмарным образом – как Югославия, которая теперь дробится на все более мелкие части. Каждый возвращается к своей идентичности; так я понимаю принцип общинности, о котором только что упомянул. Но нам не дано предугадать, придем ли мы в этой новой реальности к мирному сосуществованию или хотя бы к состоянию, когда нет войны. Возможно, победят слепые и эгоистичные интересы… предугадать невозможно. Но вот что говорят нам пророки – и вот в чем убежден я: если мы придем к ситуации, где над мелочными интересами возобладает диалог – не важно, при большей или при меньшей степени общинности, – то начнется расцвет религиозности.
Бергольо:
– Если заглянуть в историю, видишь, что религиозные формы католицизма заметно различались между собой. Вспомним, например, Папскую область, где светская власть была объединена с духовной. То было искажение христианства, оно не отвечало тому, чего хотел Иисус и чего хочет Бог. Если на протяжении истории религия претерпела такую эволюцию, почему бы не предположить, что и в будущем она придет в соответствие с культурой своей эпохи? Диалог между религией и культурой имеет ключевое значение, это провозгласил еще Второй Ватиканский собор. С самого начала от Церкви требуют беспрерывных преобразований (Ecclesia semper reformanda[136]), и эти преобразования со временем приобретают различные формы, не меняя догм. В будущем появятся другие способы соответствовать новым временам, как и сегодняшние формы отличаются от того, что было во времена регализма, юрисдикционализма[137] или абсолютизма. Вы, рабби, упомянули также о переходе к общинности. Это один из ключевых шагов – тяготение к малой общине как к религиозной группе, к которой человек мог бы «принадлежать». Оно удовлетворяет потребность человека в собственной идентичности, не только религиозной, но и культурной: «я из такого-то района, из такой-то семьи, я болельщик такой-то команды, я принадлежу к такой-то конфессии и т. п.» То есть, существует место, где я чувствую себя «своим», я узнаю себя в определенной идентичности. Христианство началось именно с «общинности». Когда читаешь в книге св. Луки о деяниях апостолов, обнаруживаешь, что происходила массированная экспансия христианства: на первых проповедях Петра приняли крещение две тысячи человек, а затем они стали объединяться в небольшие общины. Проблемы возникают, когда в приходской общине нет собственной жизни, когда община сводится на нет, поглощается вышестоящей структурой. Между тем именно чувство, что здесь ты «свой», вдыхает жизнь в приходскую общину. Я вспоминаю, рабби, как однажды я заглянул в вашу общину, чтобы побеседовать с вами, а вы представили мне женщин, которые занимаются в синагоге социальной работой. Они паковали вещи для малоимущих семей. Синагога или приходская церковь побуждают нас заботиться о наших собратьях, претворяют религиозность в конкретные дела. В данном случае это была благотворительность, но есть и другие формы: образование, просвещение и т. п. Когда мы занимаемся такой работой, нас обвиняют во вмешательстве в дела, которыми мы якобы не должны интересоваться. Например, недавно на вокзале Конститусьон в Буэнос-Айресе я отслужил мессу за жертв торговли людьми. Я имел в виду рабский труд в подпольных цехах, эксплуатацию уличных сборщиков вторсырья, положение мальчиков, которых принуждают перевозить наркотики, и девушек, которые занимаются проституцией. В конечном итоге месса превратилась в крупную акцию протеста, к ней присоединились люди, которые не исповедуют католичество, не разделяют мою веру, но разделяют со мной любовь к ближнему. Я не вмешиваюсь в политику, я вмешиваюсь в проблемы своего ближнего, которого отправили собирать вторсырье или трудиться на фабрике, где с ним обращаются, как с рабом. Правда, некоторые пользуются такими акциями, чтобы исподтишка пропагандировать собственные политические структуры. Поэтому в таких ситуациях нужно тщательно продумать свою линию поведения.