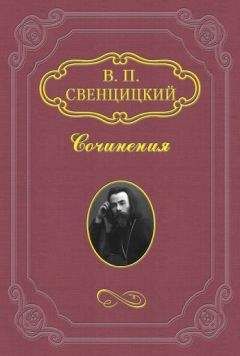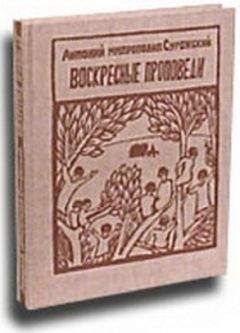И я теперь вижу, как видят это все близкие и родные Толстого и как увидит когда-нибудь весь мир, что жизнь Толстого в Ясной Поляне была не компромиссом, а величайшим подвигом, была самым глубоким соединением слова и дела.
Люди думали, что Толстой не уходил потому, что привязан к мягкой мебели, и он терпеливо сносил упрёки, – но он не уходил потому, что боялся поступить слишком эгоистично, слишком ему хотелось уйти, слишком было легко.
Не «привязанность к роскоши», «обстановке», к «людям» и «привычной жизни» удерживала его, – а боязнь, что он изберёт слишком лёгкий выход.
Уйти из этого ада, в котором ему приходилось жить в своей интимной жизни, – это было слишком для него приятно и просто, и он жил, надеясь, что добро победит зло.
Он решил уже давно, что уйдёт тогда, когда почувствует, что делает это не из эгоистических побуждений, не из желания с трудного пути сойти на более лёгкий; тогда, когда почувствует в этом желании уйти – голос Божий.
И когда в ту великую ночь он это почувствовал – он и ушёл.
От кого «бежал» Лев Толстой[17]
Год тому назад, в ночь с 27 на 28 октября, Лев Толстой «бежал» из Ясной Поляны.
Событие это имело мировое значение, потому что только после своего отъезда Лев Толстой встал перед миром во весь свой гигантский рост.
Что же такое случилось?
Немногочисленные, но злобные враги Толстого издевались:
– Убежал, как собака… Издох где-то на станции… Туда ему и дорога.
«Бегство» Толстого – это одна из величайших побед человеческого духа над житейской пошлостью.
Почти тридцать лет тому назад Лев Толстой отказался от своего имущества в пользу семьи. Хотел уйти – уехать к духоборам. Но остался. Стал жить в Ясной Поляне.
– Пишет одно – а живёт по-другому, – слышались упреки.
Упрекали не только невежественные враги, но такие «властители дум», как покойный Михайловский[18]
Многие обращались к нему за материальною помощью.
Он отвечал: у меня ничего нет.
Ему не верили: ничего нет, а сам живёт, как граф. Даже друзья недоумевали: говорит, что жить в прежней обстановке невыносимо тяжело, а сам не уходит, остаётся в Ясной Поляне.
Люди не могли понять того, что стало ясно только после его смерти: Толстой не уходил потому, что ему было легче уйти, чем жить в прежних условиях, и он, несмотря на всеобщие упрёки, продолжал нести более тяжёлый крест «семейной жизни», чем «лёгкий» крест уединения, который ему со всех сторон подсказывали. И Толстой ушёл только тогда, когда почувствовал, что уходит не по «слабости», не потому, что это облегчает его жизнь, не потому, что ему этого «хочется», – а когда всем существом своим понял, что такова воля Божья. Всю жизнь свою Толстой прислушивался к голосу Божьему в себе и учил других и сам старался жить, руководствуясь не своей волей, а волей Того, Кто послал людей в мир. По его собственным словам, долгие годы ждал он, когда этот голос велит ему порвать, наконец, невыносимо тяжкие условия семейной жизни и уйти из мира. Это и случилось в ночь с 27 на 28 октября.
* * *
Прошлую зиму, уже после смерти Льва Толстого, я с И. А. Беневским ездил в Ясную Поляну.
Могила в тихом, совсем «монастырском» лесу. И тихие «богомольцы», которые подходили к могиле, и узкие тропинки по рыхлому снегу, и серебряный иней на берёзах – всё так странно напоминало «скит»; не было только «старца»…
Какой-то мужичок подошёл к ограде. Перекрестился и сказал:
– Да, пожил бы ещё дедушка, кабы не простудился…
И взял кусочек земли: «с святой могилы».
На обратном пути, уже совсем ночью, мы заехали к Александре Львовне.
Там была в гостях «старушка Шмидт»[19], – недавно у неё случилось большое горе: сгорел дом и масса бумаг, собранных ею за тридцатилетнюю дружбу с Толстым, письма его, рукописи. А вот теперь новое, страшное горе – умер Лев Николаевич.
– Я забыть не могу, – тихо говорит она, – как он последний раз был у меня с Душаном Петровичем: такое измученное лицо было… Господи, думала ли я, что последний раз?..
В маленьком флигельке Александры Львовны тепло, уютно, тихо. Тоже как будто в келье, и всё полно воспоминанья о «милом дедушке», о дорогом, безмерно любимом человеке.
Александра Львовна рассказывает:
– Я спала внизу. Вдруг ночью стук в дверь. Отворяю, смотрю: отец со свечой в руках. Лицо его положительно светилось. «Я еду, – сказал он, – помоги уложить вещи». Когда мы пришли с Душаном Петровичем (доктором Маковицким, уехавшим вместе с Толстым), – всё было почти уложено. Мы ждали этого давно, но окончательное решение было очевидно внезапным. Софья Андреевна спала за три комнаты от отца, и все двери держала открытыми настежь. Теперь двери были закрыты. Оказывается, отец закрыл их, и Софья Андреевна не проснулась
– Куда же хотел Лев Николаевич ехать? – спросил я.
– Или в Болгарию, или на юг, в деревню к одному другу крестьянину.
– Неужели он думал, что его «не найдут» и к нему не начнётся ещё большее паломничество?
– Предполагалось обратиться через газеты с просьбой «не искать».
– И с ним никого бы не было из друзей?
– Нет, я бы потом приехала и стала жить с ним.
Александра Львовна тихо улыбнулась и прибавила:
– Он очень меня отговаривал от этого: «Тебе будет трудно, ты со своим здоровьем не выдержишь такой жизни». А я спрашиваю его: «Ты в восемьдесят два года выдержишь, а я нет?» – Засмеялся…
Старушка Шмидт вздыхает и говорит:
– Вот уехал… И пожить не пришлось.
* * *
От кого же «бежал» Лев Толстой?
Разумеется, прежде всего от Софьи Андреевны и от той невыносимой для него жизни, которой она его окружила.
Когда-то Софья Андреевна была настоящая его «подруга жизни». Они вместе вели хозяйство, увлекались свиноводством, в экономии у Толстых было до 500 голов породистых свиней! Граф сам обходил хлевы и следил, чтобы каждый день их мыли. Графиня вела приходо-расходные книги, как редкий специалист приказчик.
Были дети. Было тихое «семейное счастье». Богатство, слава. Это ли ещё не «рай земной»?
Но Лев Николаевич опрокинул всё одним взмахом. Всё это счастье назвал ложью и обманом. Отрёкся от прежней жизни, сам пошёл пахать землю и сказал: смысл жизни не в славе, не в богатстве, не в семье, – а в том, чтобы исполнять волю Божию.
Софья Андреевна не пошла по новой дороге. И в Ясной Поляне началась двойственная жизнь. Медленная, мучительная трагедия. Внизу, к «дедушке» приходили люди «босиком», «братья» его, которых не пустят ни в один «порядочный дом».
Наверху лакеи в белых перчатках докладывали: «Ваше сиятельство, кушать подано».
Лев Толстой учил: вся земля Божия, грешно владеть ею. А черкесы, нанятые Софьей Андреевной, пороли крестьян за порубки в «барском лесу».
Софья Андреевна не переставала любить Льва Николаевича, но она не могла понять его и простить ему новой жизни. Для неё это была «блажь», «несчастье», обрушившееся на её семью, – и она буквально тиранила Льва Николаевича, сплошь и рядом доводя его до слёз и до обмороков.
Она по целым месяцам не допускала к нему Черткова. И довела Александру Львовну, любимую дочь Льва Николаевича, единственную «последовательницу» его в семье, до того, что та вынуждена была уехать из Ясной Поляны.
Лев Толстой «бежал» от Софьи Андреевны только тогда, когда почувствовал в себе нравственные силы по-настоящему всё простить.
Во-вторых, Толстой «бежал» от друзей. Они очень любили его. Они проявляли трогательную заботливость. Но они «снимали» каждое его движение, за спиною друзей вечно стояли фотографы и кинематографы, скульпторы и живописцы. Толстой был на исключительном положении. А ему хотелось быть как все. Ему не хотелось быть чем-то особенным. Всю эту шумиху вокруг себя он считал суетной и смешной.
– Великий писатель земли русской; почему не воды? Я никогда не мог понять этого, – шутил Толстой.
А подписывая бесконечное количество своих портретов, смеялся:
– Кипит работа!
Бегство Толстого от Софьи Андреевны – было высшим проявлением его примирения с людьми.
Бегство от друзей – было высшим проявлением его стремления к простоте.
Лев Толстой (К годовщине смерти)[20]
Лев Николаевич Толстой – самое полное, самое совершенное выражение духовной сущности великого русского народа[21].
Не любить и не понимать Толстого – значит не любить и не понимать Россию.
Ещё Достоевский указывал на «всемирность» русского народа. На многогранность русского гения. На способность соединять в своём творчестве всё разнообразие отдельных национальностей.
Это свойство я бы назвал: способностью к полноте жизни.