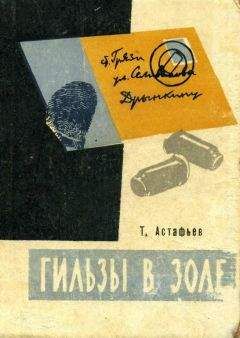Он смолк, глядя в окно на высокое весеннее небо в наивных бездумных барашках.
— Опозорила она меня. Ославила и умерла. И пятно подозрения оставила. Думаю уезжать отсюда. Хотел вас спросить, могу ли я уехать. Кто я: муж трагически погибшей женщины или обвиняемый?
Стрельцов уверил провизора, что прокуратура ни в чем не подозревает его и что он в любой момент может покинуть районный центр и жить, где ему заблагорассудится.
— Тогда еще просьба. Могу ли я получить назад письма, которые забрали из дома?
— О каких письмах вы ведете речь? Я припоминаю только одно.
Стрельцов вопросительно посмотрел на провизора.
— Я полагал… я думал…
— Какие письма? — переспросил следователь.
Кончики круглых толстых пальцев провизора, которые слегка касались бумаги, накрывавшей стол, неприметно дрожали. Он прижал их к бумаге.
«Да что это с ним? — в недоумении подумал следователь. — Неужели он думает, что ему откажут вернуть письма?»
— Послушайте, Воронин. Вам выдадут все бумаги, какие найдутся. Просто я не припоминаю всего, что было взято. Вы же знаете, что первым в дом прибыл дежурный милиции, а не я. Возможно, часть бумаг осталась в милиции. Я справлюсь. Что вас интересует?
И опять Стрельцов уловил в чертах провизора какое-то замешательство.
— Э-э… Было еще одно. Я писал жене из города. Просил ее не уходить из дому, не сообщив мне. Ну, и просил еще раз все взвесить.
«Болван, как я мог просмотреть такой документ?» — выругал себя Стрельцов. Кто знает о чем он? Возможно, в письме разгадка несчастья, а я ничего не знаю о нем! Может, оно и вызвало нравственный надлом?»
— Хорошо, Воронин. Мы найдем письмо.
Искать его пришлось долго. Работники милиции уверяли, что ничего, кроме конверта, лежавшего на столе, они не брали. Об изъятии каких-либо иных документов в протоколе осмотра не упоминалось.
Так где же это письмо?
Следователь решил осмотреть два чемодана умершей, которые она перевезла к своему знакомому накануне смерти. Дежурный сдал их под сохранную расписку хозяйке дома, где квартировал инженер.
Не в этих ли чемоданах?
Письмо Стрельцов обнаружил на дне одного из них.
«Пишу, сознавая, что по приезде домой не застану тебя. Я настолько истерзан тем, что произошло за последние месяцы, что не нахожу слов, приличествующих минуте. Я знаю, что решение твое непоколебимо. Поэтому не пытаюсь отговаривать тебя. Я прошу оказать мне последнюю услугу: сообщить перед отъездом, что ты берешь из вещей, кому оставляешь ключи, где ты будешь жить: мне еще придется тебе писать. Нам нужно решить, с кем будет Николашка.
Меня устроит маленькая записка. Чтобы не обременять тебя хождением на почту, вкладываю в это письмо конверт и марку. А. Воронин».
Эти строки не могли вызвать у женщины душевной травмы. Чем письмо так дорого провизору? Почему с таким волнением он просил вернуть его? И где здесь попытка хоть словом отговорить жену от принятого решения?
Сняв очки, Стрельцов приблизил письмо к близоруким глазам и снова пробежал его строчка за строчкой.
Никакого тайного смысла вышелушить из письма не удавалось.
Конверт, о котором в письме шла речь, был, очевидно, тот самый, который нашли при осмотре места происшествия.
Стрельцов раскрыл дело и стал рассматривать небольшой изящный конверт. В нем лежало последнее письмо Ворониной.
«Я уезжаю сегодня, в 15. Вещи уже собраны», —
наверное, в сотый раз прочитал Стрельцов.
И снова вернулся вопрос: зачем, зачем кончать самоубийством за три часа до отхода поезда?
В этот день к Ворониной приходил только почтальон.
«В какие часы?»
Стрельцов принялся листать дело. Нашел протокол. В четырнадцать, почтальон приходил в четырнадцать. Он принес письмо от мужа. А в 14.30 соседка, забежавшая перед отъездом Ворониной отдать ей небольшой денежный долг, обнаружила женщину мертвой.
Строки о том, что она уезжает, Воронина написала за несколько минут до смерти. Если в 14.00 ей принесли письмо от мужа, то ответ на него Юлия могла написать, пока была жива, то есть между 14.00 и 14.30.
Воронина писала, что уезжает, сообщала свой новый адрес, перечисляла взятые вещи, не забыла упомянуть о такой мелочи, как ключи, и все это за несколько минут до смерти, все это — сознавая, что через несколько минут она умрет.
И тут Стрельцова ошеломила догадка, нет, не догадка — уверенность: женщина не знала, что она через несколько минут умрет, она не желала наступления смерти. Ее гибель являлась насильственной. Она убита. Убита между 14.00 и 14.30. Кем? Почтальоном? Семнадцатилетней розовощекой деревенской девушкой, видевшей Воронину два-три раза? Абсурд. Тогда кем же?
От внезапно нахлынувших мыслей он встал и принялся беспокойно прохаживаться по комнате. На следующий день Стрельцов уехал в город, в лабораторию.
Он повез туда конверт с маркой, обнаруженный на столе при осмотре места происшествия. Из письма Воронина вытекало, что именно этот конверт и эту марку он послал жене из города. Вопрос в постановлении о назначении химической экспертизы стоял один: нет ли на конверте и почтовой марке следов цианистого калия?
Ответ пришел не скоро, но был категорический. На клеевой поверхности марки был обнаружен цианистый калий.
Коварный замысел провизора стал ясен.
Зная, как наклеиваются на конверт марки (клеевую поверхность обычно смачивают кончиком языка), он нанес на обратную сторону марки смертельную дозу яда.
Юлия воспользовалась маркой и погибла.
Провизора арестовали в тот день, когда пришло заключение экспертизы. Он во всем признался. Как выяснилось, полграмма этого страшного белого порошка он добыл у работника гальванического цеха одного из заводов в городе. Перед тем, как нанести яд на марку, он увлажнил клей, а затем кончиком скальпеля равномерно распылил на нем порошок. Доза не превышала сотых долей грамма.
Воронин предусмотрел и тот случай, если жена по каким-либо причинам не воспользуется маркой и не сохранит ее. Он оставил в запасе еще две смертельные дозы цианистого калия, по 0,15 грамма каждая, ссыпав порошок в порожнюю бюксу[1] с притертой крышкой.
Как только пришла телеграмма о смерти жены, он сразу избавился от улики и выбросил яд в ящик с мусором.
На вопрос следователя, каким образом он, не слишком решительный по характеру человек, пришел к мысли, опасной не только для жены, но и для него самого, провизор ответил, что способ убийства казался ему абсолютно недоступным для разоблачения.
Расследование продолжалось не более месяца. Оба подследственных: и Воронин, и его невольный соучастник, нарушивший по склонности к спиртному правила о хранении ядов, — не делали попыток что-либо утаить.
…Воронил знакомился с двухтомным делом в помещении следственного изолятора. Внимательно он прочитал только дневник жены и показания инженера, ее знакомого. Остальные бумаги лишь перелистал.
Зато много говорил. Хотел, чтобы его поняли.
— Не думайте, что я изверг. Я тихий человек. Я боюсь крови. Не могу зарезать даже курицу. А вот случилось.
Он долго смотрел в разлинованное прутьями окно, за которым открывался вымощенный булыжником тюремный двор.
— Уязвила она меня. Заставила всю жизнь думать, что я ничтожество. Черта мне в душу посадила. Хоть и знаю — неправда то, что она думала обо мне, а думаю. Все равно, что клеймо неполноценности оставила. От соседей уехать можно, а от себя? Изнутри меня ущемила. Когда я проходил по улицам поселка, я читал в каждом взгляде: «Вон осел, которому открыто изменяет жена. Она, кажется, уезжает от него». Я не убил ее. Я покарал. Не по этому закону, — он показал на папку, — а по этому, — провизор дотронулся до груди. — И скажу вам, успокоился я. Особенно когда увидел, как ее д’Артаньян, инженер этот, уезжает. Почернел весь. Глаза ввалились. Смотрят ему все вслед, и каждый думает: «Вот человек, который, как вор, залез в чужую семью, погубил женщину, а теперь бежит от людей».
Хорошо, думаю. Походи-ка в моей шкуре. Подумай, отчего она умерла, как я думал, отчего она меня разлюбила. Хоть и знаешь — не ты виной (я тоже знал, что не виновен в том, что она разлюбила меня), а думай, Я тоже думал. Вы мне, думаю, червячка в душу посадили, а теперь сам поноси-ка его.
Он опять обратил взгляд на унылый булыжный двор.
— А ее вроде бы сначала жалковато было. Любил я ее. Видел в ней то, что самому недоставало. А потом нет-нет, а порой подумаю: «Ты вот умная была, все в облака стремилась, хотела многого, а потеряла все».
В поисках свободного кабинета в комнату заглянул один из городских следователей. Провизор повернулся к двери. Когда дверь закрылась, он продолжал:
— Все складывалось хорошо. Все продумал. И сам все погубил. Собственной неосторожностью. Помните, когда вы спросили про второе письмо? Зачем бы мне говорить о нем? Этим и погубил себя. Хотелось поскорее заполучить его и уничтожить. Про конверт и про марку в нем упоминалось. Думаю: дочитаются. Какая такая марка, спросят, зачем? А ведь совсем не нужно было мне это письмо. Только сейчас осмыслил. Мне ведь достаточно было получить назад конверт с отравленной маркой, тот, что вы мне отдавали. И шабаш. Никаких улик… Как в детстве. Строишь, строишь из кубиков замысловатый дом и сам же его нечаянно развалишь.