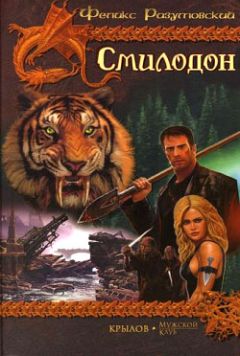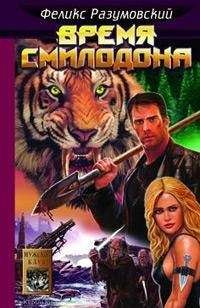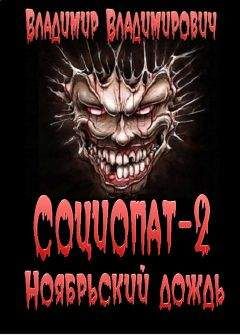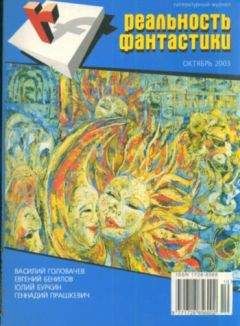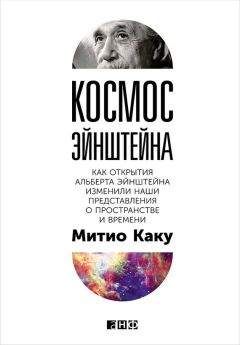– Братцы, гля, мавр! Живьем! Этому башку мы еще не отшибали.[114]
– Да, этому не отшибали! – обрадовался Ботин, пьяненький Соколик пакостно заржал, и три богатыря по ранжиру дураков[115] вразвалочку подвалили к Бурову.
– Ну, что ли, здравствуй, эфиоп мордастый!
Каково же было их удивление, когда эфиоп на чистом русском языке ответствовал с нехорошей улыбочкой:
– Катились бы вы, ребята, куда подальше. Пока молодые и красивые.
Орловские гвардейцы ему не понравились. Да, координированные, сноровистые, с хорошей биомеханикой. Бойцы. Так и что с того? Сильный должен быть добрым, не наглым. А борзым-то быкам рога обламывают. Видимо, ребяток еще никто не учил…
– Братцы, смотри, лает. Нас лает, – справился-таки с удивлением Ботин, поганенько заржал и выкинул ногой невиданное, напоминающее «подкрут в подвяз»,[116] коленце. – Бесчеловечно лает.
– А ты испеки ему пирог во весь бок, так, может, и не будет, – с нарочитой серьезностью посоветовал Трещала и, неожиданно разъярившись, заорал басом: – Дай ему похлебку в три охлебка, язви его в жабр,[117] салазки[118] свороти!
Голос у него был зычный, архиерейский, перекрывающий все звуки праздника.
Дважды упрашивать Ботина не пришлось, а был он малый тороватый,[119] бойкий: быстренько вышел на дистанцию, топнул по всей науке ножкой, да и вставил зубодробительную распалину[120] – мощно, складно, от всей души, так, чтобы скулы вдрызг. Только ведь и Буров был не подарок, к тому же начеку – разом познакомил Ботина со своим локтем, применив подставочку «кулак вдребезги». Собственно, не кулак, суставы… Дико закричал подраненный, отступил, схватился за кисть и от сокрушительного удара ладонью в лицо опустился на лед отдохнуть. Налетевший было ястребом Соколик тут же заработал в клюв, загрустил, нахохлившись, раскинул крылья и, словив еще сапожищем в солнечное, превратился в мокрую курицу.
– Господа, господа, это какое-то недоразумение! Мы иностранцы, господа! – вышел-таки из ступора Калиостро и сконцентрировал все свое внимание на плотном плане, но господа в лице хрипящего от ярости Трещалы даже не обратили на волшебника внимания – стремительно и мощно, бульдозером, поперли на Бурова. Это был смерч, цунами, ураган, тайфун, устоять перед которым невозможно. А Буров и не стал, резко ушел вниз, да и приласкал Голиафа подкованным каблуком в пах – там у всех устроено одинаково, крайне деликатно и весьма чувствительно, будь ты хоть трижды богатырь. И град затрещин, буздыганов и косачей.[121] стих, Трещала вскрикнул, согнулся вдвое и скорбно замер, схватившись за мотню, – как видно, у него в штанах все круглое сделалось квадратным… Только недолго стоял он так, – величественный, как скала, Буров быстренько провел «ножницы», и колосс орловский рухнул. Мощно, грузно, по-богатырски. Всей неподъемной тушей на невский лед. Мозжечком падать он не умел. Так ведь когда-то надо начинать учиться[122]
– Отдыхай, милый, лечись. – Прыжком-разгибом Буров поднялся на ноги, подобрал со льда чалму, напялил поладнее, а тем временем раздался дикий крик и стремительно метнулось тело: это оклемавшийся Соколик соколом пошел на второй заход. Шел недолго. Буров, свирепея, встретил его сапогом под ребра, с хрустом раздробил колено, напрочь вынес в аут, потом вырубил вглухую сунувшегося было Ботина и, уже окончательно рассвирепев, отфутболил в массы белую, ни в чем не повинную «маньку», там ей быстро приделали ноги. Все это случилось на одном дыхании, в темпе вальса, так что сразу никто ничего и не понял. От изумления гуляющие замерли, над толпой повисла тишина, было слышно только, как старается какой-то балаганный дед:
А это, извольте смотреть-рассматривать,
Глядеть и разглядывать,
Елагинский сад.
Там барышни гуляют в шубках,
В юбках и тряпках,
Зеленых подкладках.
Пукли фальшивы,
А головы плешивы…
Он, как видно, Васю Бурова во всей красе не видел.
– О Господи, сколько пьяных, на каждом шагу, – подошла, явно не в настроении, Лоренца, презрительно посмотрела на Трещалу, Ботина и Соколика, брезгливо отвернулась. – И вообще эти русские. У них очень странное чувство юмора. Знаете, как нам показали Зимний дворец в натуральную величину? Сквозь отверстие в стене балагана. Это совсем не смешно.
– Да уж, – тихо промолвил Калиостро, очень по-воровски глянул по сторонам и сделался решителен и целеустремлен. – Едем домой. Немедленно. Никаких вопросов.
А уже в каретном лимузине, когда кучер врубил полный ход, он в какой-то странной задумчивости воззрился на Бурова:
– А ведь предупреждал меня мудрый Сен-Жермен, что у вас, сударь, тяжелый характер. Вам только дай повод спустить своего тигра.
Буров из вежливости не ответил, только кивнул головой. Ему зверски хотелось есть. Как тому тигру…
Неделю бушевала Масленица – с шумом, гамом, обжорством и винопитием. В столице развлекались вовсю, не смотрели ни на чины, ни на звания. Сиятельные петиметры,[123] в «санных шубах», в винчурах[124] или в куртках с чихчирями «кадрили» своих барышень под щелканье кнутов[125] государыня сама изволила проследовать в санном поезде,[126] а на пирах, балах, куртагах и маскарадах музыка звучала до самого утра. Ездили всем обществом в Красный Кабачок,[127] или же мужеским компанством на Пески к цыганам, пили до изумления, закусывали смачно, истово служили Момусу[128] и Венере. Простой народ от знати не отставал, также веселился и телом, и душой. Тешил себя зрелищами кукольных комедий[129] канатных плясунов, «китайских теней», не гнушался водочкой, икоркой и буженинкой, бился на кулачках,[130] лихо несся с гор.[131]
Только, увы, все кончается – отшумела, отгуляла Масленица, и настали трудовые будни, да еще не просто так, а на подведенное брюхо.[132] Впрочем, в доме у Елагина ели, как и раньше, в охотку, правда, налегали большей частью на овощи и фрукты, жаловали каши с рокфором и трюфелями, уважали ушицу из судаков и вырезубов.[133] Сковородку свечным огарком.[134] никто не мазал, были дела и поважнее. Калиостро, например, вовсю готовился к открытию магического сезона – более длить паузу не имело смысла, Петербург и так был полон слухами о заезжем волшебнике, остановившемся инкогнито у гроссмейстера Елагина[135]