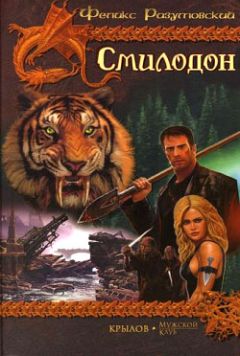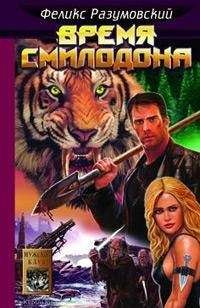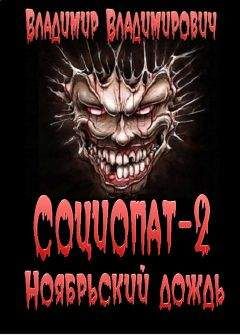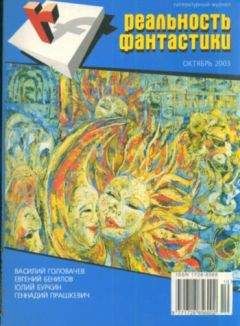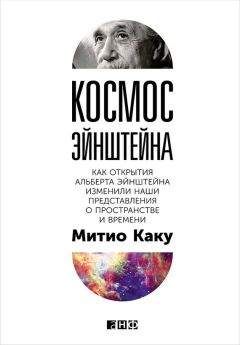Давать премьеру было решено в доме генерала Мелиссино, человека уважаемого, прошедшего initiatio[136] и беззаветно преданного идее масонства. И колесо фортуны завертелось: не мудрствуя лукаво, напечатали сто билетов по принципу: раз дерут втридорога, значит, оно того стоит, скомандовали полтинник[137] за вход, заклеили афишами всю столицу и пустили по салонам молву. Сам… Несравненный… Великий Копт… Снизошел…
Народ в салонах реагировал с пониманием, не глядя на дороговизну, выказывал энтузиазм:
– А, это тот волшебник, чей арап накостылял любимчикам Орлова! Нет, право, князь, давайте сходим. Полюбопытствуем на этого черного геракла…
Собрались через три дня под вечер. Главный артиллерист турецкой кампании,[138] не бедствовал, отнюдь. Дом его, правда двухэтажный[139] впечатлял, поражал размерами и напоминал крепость. Из необъятных, с пылающим камином сеней великолепная двойная лестница, украшенная зеркалами и статуями, вела наверх, в пышную анфиладу комнат, всю увешанную батальными полотнами. В самом конце ее, в огромной, о пятнадцати окнах, гостиной Калиостро и собирался поразить собравшихся невиданными чудесами магии. Впрочем, чудеса начались сразу, еще до начала представления, – народу набралось во множестве, уж всяко больше ста голов, – как видно, многие владели искусством материальной телепортации. Публика была разношерстной: свои, Hommes de desir,[140] суть Macons acceptes,[141] и жалкие профаны, явившиеся поглазеть на изыски магического действа. Хотя князя Потемкина-Таврического в его сплошь залитом бриллиантами камзоле назвать профаном было трудно…
– Господа, прошу тишины! Не мешайте истечению флюидов! – Мелиссино на правах хозяина вышел на середину, сделал величественный, полный благоговения жест, и голос его, привыкший перекрывать раскаты орудий, возвестил: – Господа, божественный Калиостро!
Жидко зазвучали аплодисменты, дверь в боковую комнату открылась, и пожаловал сам Великий Копт под ручку с принцессой Санта-Крочи, в миру зовущейся Лоренцей. Их сопровождали Анагора в насквозь просвечивающем ионийском химатионе, оскалившийся индус при тюрбане с аграфом, опальный катар с неподъемным талмудом и Буров с Мельхиором чернорожими богатырями.
– Который, который из арапов, что Трещалу завалил?
Публика воодушевилась, аплодисменты усилились, а Калиостро оставил свою даму, вытащил меч и сообщил страшным голосом:
– Итак, я начинаю. Духи огня саламандры, именем Невыразимого заклинаю вас повиноваться мне! Да будет так!
Клинок со свистом прорезал воздух, вспыхнул на полу, налился зеленью магический круг, изумленная публика ахнула, отшатнулась, в прострации замерла. И понеслось… С массовым силовым гипнозом, с невиданными пророчествами, с игрой в одни ворота в вопросы и ответы, с метаморфозой мусора в проклятый металл, с чарующим антуражем в виде черепов, загадочных эмблем, египетских статуэток и хрустальных шаров. Калиостро – в черном одеянии, подпоясанный мечом, – был великолепен, Лоренца – в своей сетке в крупную ячейку – само совершенство, Анагора, укрытая лишь ионийским газом, – на редкость соблазнительна, монсегюрец – задумчив, Мельхиор – доволен всем, индус – с бодуна, а Буров – ироничен. Сеанс высшей магии напоминал ему шахматное действо, когда-то произошедшее на просторах Васюков. Впрочем, напоминал лишь отчасти, – времена совсем не те, нравы тоже, Великий Копт вовсе не Великий комбинатор, да и в гостиной собрались не любители гамбитов. Эти, если что, бить не будут – утопят сразу. Вон какой взгляд у князя Потемкина-Таврического, жесткий, оценивающий, внимательный, даром что монокулярный.[142] А эти скулы, говорящие о честолюбии, массивный крючковатый нос, сократовский, выражающий энергию лоб и мощный бульдожий подбородок. Хоть и Потемкин, а все с ним ясно – не подарок. И в дураках оставаться не привык…
Представление между тем продолжалось, близился финал. Из походного алхимического агрегата Калиостро извлек сделавшуюся золотой подкову, небрежно опустил ее в сосуд в форме человеческого черепа, вытер устало лоб и властно произнес:
– Духи огня саламандры, именем Невыразимого я отпускаю вас. Гномусы, сильфы и ундины, я вам тоже разрешаю уйти. Господа, прошу вас, никаких оваций, не нарушайте астральную пропорцию.
Магический круг погас, настала тишина, все замерли в полутьме, не в силах пошевелиться. Не дай Бог нарушить астральную-то пропорцию! Но вот оглушительно грянул гонг, вспыхнули разом свечи, и все увидели кланяющегося Калиостро. С ним случилась удивительная метаморфоза: черная хламида стала красной, рыцарский меч исчез, а на голове появился убор египетского фараона-жреца.[143] Смотреть на него было жутко, непривычно и крайне завлекательно. Вот он, вот он, Великий Копт! И тут, не совладав с эмоциями, публика взорвалась аплодисментами, овация была непрекращающейся, бурной и напоминала шум прибоя. Аудитория неистовствовала, успех был полнейший.
– Премного слышал лестного о вас, граф, но то, что узрел сегодня, поразительно, – изрек уже в приватной обстановке князь Таврический, сладчайше улыбнулся, изобразил восторг, и россыпи бриллиантов его сказочно сверкнули. – Почту за честь видеть вас у себя за ужином.
Потом, проигнорировав красавицу Лоренцу, он плотно приложился к ручке Анагоры, с небрежностью кивнул вытянувшемуся Мелиссино и уже в дверях застыл, просяще обернулся:
– Миль пардон, а не покажете ли вы мне арапа, что накостылял людишкам Алехана? Право, жаль, что не ему самому…[144]
Ужинали в диванной комнате, где мебель и потолки были обтянуты розовой и серебряной тканью. Гостей, невзирая на мудрость древних: septem – covivium, novem – convicium,[145] было изрядно, за столом прислуживали рослые кирасиры в красных колетах и шапках с султанами, волнующе звучала роговая музыка, густо курились благовония, кушанья были бесподобны, напитки напоминали нектар. Да, кому Великий пост, а кому продолжение Масленицы.
Ужинали по-разному. Буров, Мельхиор и пьяненький индус, хоть и не были харчем обижены, но сидели с краю, за персональным столиком – за общий их не взяли, видать, рожами не вышли. Зато Лоренца, маг и лыбящаяся Анагора устроились козырно, в центре, рядом с хозяином. Светлейший князь Таврический – при алмазных звездах, соболях и Андреевской с Георгиевской лентах – был на редкость светел, трогательно учтив и блистал бриллиантами, манерами и остроумием. И поскольку дело происходило за столом, то и разговор касался тем гастрономических, приятных для желудка.