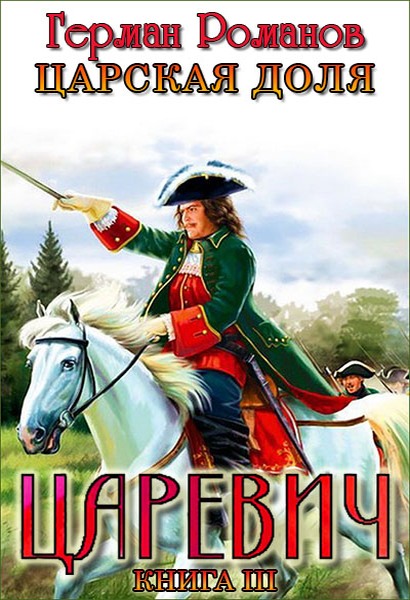фляга литра на два оказалась полной, Алексей встряхнул ее без «булька». Вырвал зубами затычку, машинально понюхал — запах полыни узнал сразу, приятный. Недолго думая отхлебнул — словно огненная струя потекла в желудок, согревая пищевод. Кхекнул, оторвал несколько травинок и занюхал, дыхание перехватило.
— Зело крепка!
— С перцем, государь…
— Ты пей, — Алексей ткнул горлышко в губы казака и тот начал пить, что твой конь — струйки горилки стекала с усов. Фляга опустела примерно на треть, когда черкас оторвался от горловины.
Сивко тревожно заржал, крепенько прихватил царю плечо зубами. Тот моментально осознал, что умный конь без нужды такое делать не станет — видимо, супостаты через реку переправились. Укус усилился — конь его явно торопил, да и сам Алексей прекрасно понимал, что нужно удирать как можно быстрее. Вот только бросать казака не дело, он мысленно прикинул, как ему можно черкаса затянуть в седло — силенок поднять вряд ли хватит, все же в раненном было не меньше пяти пудов веса.
— Ах, вон оно как?!
Проблема решилась быстро — казак что-то прохрипел своей лошади, и та, как хорошо дрессированная собачка, тут же легла рядом с ним. Алексей помог казаку взобраться в седло, да и сам поторопился — Сивко уже показывал недовольство, снова укусив за плечо. И тут же рванул с места в карьер, пересек луг, и вышел на проселочную дорогу — узкую, с видимой тележной колеей. И вовремя — оглянувшись, увидел, как за ним наметом идет лошадь — раненый черкас склонился к гриве.
— Твою мать!
На луг вынеслись три драгуна на низеньких лошадках, причем яростно размахивая плетками, нахлестывая своих скакунов. Расстояние разделяло небольшое — метров триста, и его требовалось как можно быстрее увеличить. Быть убитым, а тем более попасть живым в руки царя Петра категорически не хотелось. То, что он сможет сделать с собственным сыном, который поднял против него мятеж и сам стал царем, и представить было страшно — умирать придется долго и в чудовищных муках…
— И как тебе наш «машкерад», Бориска?!
Глумливый голос Меншикова разил прямо в душу — старый фельдмаршал осознал, что его провели как ребенка, устроив представление. А ведь он сам был горазд на всякие ратные «хитрости», но впервые жестоко обманут. И кем — сыном конюха, что стал «светлейшим князем».
— А ты, Алексашка, зубы не скаль — выбьют их тебе… И скоро…
— Брось меня пугать, Бориска, для тебя и Алешки все кончено! Мы вас просто раздавим в лепешку, — Меншиков засмеялся, вполне искренне, однако затаенная фальшь чувствовалась и Шереметев ее уловил.
— Ничего не выйдет, — старик сплюнул кровью — ворвавшиеся в комнату преображенцы ударили его несколько раз кулаками и заехали прикладом фузеи в грудь, которая надрывно болела.
— Это почему же?!
— Ты же сын конюха, манифест царя Алексея Петровича внимательно прочитай, если буквицы разбирать научился.
— Да читал — одна дурь написана, токмо бояре могли такое удумать, разума у них нет. Но ничего — царь Петр Алексеевич их живо научит, все прегрешения свои вспомнят. На колу… Или на колесе, с разбитыми костями! О пощаде умолять станут!
— Вот там про то и написано. Чтобы более такого никогда не было, по прихоти монарха невинных людей тысячами губить нельзя. Все по «судебнику» вершить надобно, а не по царскому гневу. Да и подати собирать соразмерно, три шкуры не сдирая, да новшества иноземные по уму вводить надобно — полезное токмо, а не дурости всякие, как парики или корсеты бабские, где все сиськи наружу — срамота! Тьфу!
— Не тебе судить царя, Бориска! Государь Петр Алексеевич народ и боярство уму-разуму учит, и пусть наш люд также как в европейских странах живут! Телка неразумного силком к соскам коровы тянут, а он упирается еще. Так и вы — если палкой по хребтине не огреть, не пошевелитесь…
— Что ты мелешь, смерд?! Боярство и дворянство становой хребет державы нашей, на котором все московские цари держались! Верой и правдой самодержцам служили…
— Не смеши! Лаялись за честь токмо, а сами говорили, что хорошо служить, токмо саблю из ножен не вынимать! Разве не так?!
— Так, только не воровали как нынче крадут, честь все же блюли! А ты сколько рублей покрал, тать? Пару миллионов, да по банкам амстердамским попрятал, дабы царь не отобрал?!
Меншиков чуть ли не позеленел от досады — не ожидал, что о его тайной «негоции» в Москве знать будут. А потому привычно перекрестился, истово посмотрел на старого фельдмаршала.
— Все лжа и клевета — я честно служу царю Петру Алексеевичу!
— Мне хоть не ври, — усмехнулся Шереметев. И негромко спросил:
— Интересно мне, чем вы прельстили князей Голицына и Волконского, что данную присягу нарушили. Скажи хоть?
— Семьи свои не захотели на плахе увидеть — государь пригрозил, что детей предателей четвертует. Вот они месяц назад и отписали, что хитрость проявили и царевичу в доверие втерлись. А Балк младший погромов устрашился, вот и присягнул Алешке от страха.
— Паршивые овцы всегда найдутся, — пробурчал Шереметев, старческие глаза слезились, ладонью он потирал грудь, видимо прихватило сердце, — но, мыслю, сами они обманулись и наказание за то понесут, изменники…
— Это ты предатель, Борис Петрович, — Меншиков оскалился. — Присягу сам нарушил, отступник ты!
— Не тебе судить, Алексашка! Я царю служил, пока он сына моего Михаила не погубил, которого заложником султану отдали. И от присяги нас всех патриарх освободил! А предателей из нас токмо трое оказалось — все царю Алексею по своей охоте присягали.
— Вот и ответите за это — всех в Клин доставлю! Чего рот раззявил? Туда вся армия идет, гвардия с Михайло Голицыным. А на Волок Аникита Репнин полки ведет, а я с «машкерадом» должен был всю вашу головку здесь прихватить. Как видишь — сие предприятие мне удалось!
— Пустое, не хвались на рать идучи! Бригадир черкасский сбежал, и полки вскорости приведет! Да и Ромодановский сюда едет с двумя полками — схватить его не удастся, он сам тебя схватит! А уж опосля…
— Да не будет твоего опосля — мне доложили, что царскую карету захватили, и убили царевича — в ризы был одет, да бармы на плечах! Все кончено, Бориска, труп сюда на коне везут, скачут! Я его всем покажу — выставлю на обозрение! Эко ты взбледнул, накось, испей!
Меншиков, злорадно хихикая, поднес к синеющим губам старика кувшин — Шереметев пил жадно, вода залила кафтан на груди.
— Так что покончим с бунтом скоро — ударим с