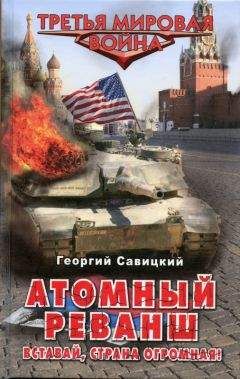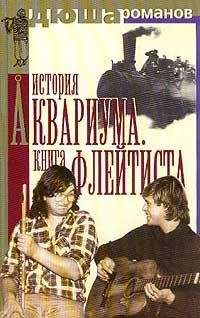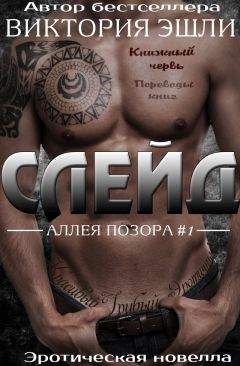- Я должен принять решение сейчас?
- Нет, у вас есть в запасе пара дней. Но хочу сказать вам: у нас есть и другой кандидат на повышение.
Его молчание столь красноречиво, что я поддаюсь.
- Кто это?
- Ну-ну… Не ревнуйте! Вы, может быть, помните его под личным номером. Пятьсот один.
Я улыбаюсь. Жизненно важный рефлекс. Пятьсот Первый. Я или он.
- Здорово, что у вас такие приятные воспоминания об этом человеке, – улыбается в ответ Шрейер. – Должно быть, в детстве нам все кажется гораздо более приятным, чем оно является в действительности.
- Я возьмусь за это дело, – говорю я.
- Ну и прекрасно, – он не удивлен. – Хорошо, что я нашел в вас человека, с которым можно говорить по существу и начистоту. Такую искренность я позволяю себе не со всеми. Еще текилы?
- Давайте.
Он сам отходит к переносному пляжному бару, плещет мне из початой бутылки в квадратный стакан для виски огня на два пальца. Через открытую секцию купола на остров залетает прохладный ветер, ерошит сочно-зеленые кроны. Солнце начинает скатываться в тартарары. Голова моя схвачена обручем.
- Знаете, – говорит мне господин Шрейер, передавая мне бокал. – Вечная жизнь и бессмертие – это ведь не одно и то же. Вечная жизнь – тут, – он притрагивается к своей груди. – А бессмертие – здесь, – его палец касается виска. – Вечная жизнь, – он кривится, – включена в базовый соцпакет. А бессмертие доступно только избранным. И думаю… Думаю, вы бы могли достичь его.
- Достичь? Разве я не уже один из Бессмертных? – шучу я.
- Разница такая же, как между человеком и животным, – он вдруг снова являет мне свое пустое лицо. – Очевидная человеку и неочевидная животному.
- Значит, мне еще предстоит эволюция?
- Само собой ничего не происходит, – возражает Шрейер. – Животное из себя надо вытравливать. Вы, кстати, не принимаете таблетки безмятежности?
- После интерната – нет.
- Очень зря, – добродушно укоряет меня он. – Ничто так не поднимает человека над собой, как они. Советую попробовать снова. Ну что ж… На брудершафт?
Мы чокаемся.
- За твое развитие! – Шрейер высасывает все содержимое своего шара до дна, опускает его на песок. – Спасибо, что пришел.
- Спасибо, что пригласили, – улыбаюсь я.
Когда бог ласково говорит с мясником, для последнего это скорей означает грядущее заклание, чем приглашение в апостолы. И кто, как не мясник, сам играющий в бога со скотиной, должен бы это понимать.
Глава 2. В гробу
Выпустите!
Тесно! Плечи упираются в стенки. Ноги почти достают до края. Я могу только лежать. Стоит мне попытаться сесть, как я бьюсь лбом о крышку, которая нависает совсем близко от моего лица. Толкаю ее обеими руками, резко – кулаки вязнут в пористой упругой массе – обивке капсулы, в которой я заперт.
Два метра в длину, пятьдесят сантиметров в ширину и пятьдесят – в глубину. Где-то за головой мягко шипит клапан вентиляции. Стоит подумать, что будет, если он выйдет из строя, как меня стискивает удушье.
Мне надо вырваться отсюда! Я же могу пропустить… Пропустить…
Движением шурупа или червя я переворачиваюсь со спины на живот. В который раз пытаюсь встать на четвереньки, чтобы выдавить крышку хребтом. Но полуметра высоты не хватает на то, чтобы распрямить колени и локти.
Идут мои третьи сутки в этом гробу. Капсула должна была открыться еще два дня назад, но кто-то вывел ее из строя.
Внутри стоит черная темнота. Корпус из прочного композита душит любые звуки. Мне не слышно ничего из того, что творится снаружи, а там никогда не услышат моих криков. И нельзя кричать, иначе перестанет хватать воздуха. Его втекает сюда столько, сколько нужно, чтобы насытить ровно дышащего спящего человека. Нельзя кричать…
Надо выровнять дыхание. Успокоиться. Собраться с мыслями!
- - Выпустите меня отсюда!!! – ору я.
Голод уже заглох. Очень хотелось есть вечером первого дня и весь второй. Во сне я ел. Батончики из кузнечиков – хрустящие, солоноватые, великолепные. Стейк в красном соке. В жизни мы видим стейки ровно раз в год, в праздники. Спроси меня, какой у стейка вкус, как он пахнет, я никогда не смогу не то что описать его, но и самому себе вообразить. А во сне он был совсем настоящий, нежный и живой, горячий. Я съел свою порцию, и мне дали добавку. Потом отнял у Пятьдесят Пятого и его кусок.
Вчера я думал, что сдохну с голода.
А сегодня мне снилось, что я ищу воду. Кран с водой. Бассейн. Стакан воды. Теперь мне не надо ничего другого. Я готов дать добровольное согласие на то, чтобы остаток дней провести в этом тесном ящике, если только меня будут регулярно поить. Язык распух, глаза сохнут. Высохшие глаза видят высохшие сны.
Я жалею, что три дня назад не догадался пить свою мочу. Я подумал об этом слишком поздно, когда она уже иссякла. Астронавты пьют свою мочу по пути к дальним звездам. Они фильтруют ее, конечно, и называют это ресайклинг, но сути дела это не меняет.
Почему я так уверен, что пошел уже третий день? На самом деле, понятия не имею, сколько часов прошло. Когда черно и глухо, время замирает. Я отмеряю его своими снами, потому что больше нечем. Убиваю его, разговаривая вслух сам с собой, пока не перестаю быть уверенным, что человек, с которым я говорю – это я.
Человек не может вынести без воды больше трех суток. Если бы прошло больше времени, я бы уже был мертв.
- - Вы что, хотите, чтобы я умер?! – кричу я.
Может быть, хотят. Я не знаю, чего они хотят.
Или я уже мертв? Наверное, в посмертии все точно так: непроглядная тьма, ватная тишина, бесконечность. Я умер и сам не заметил этого. Мертвый… Я кусаю себя за руку, чтобы отогнать липкое наваждение.
Я не хочу умирать. Умирать – глупо.
Но еще больше я боюсь, что, запертый кем-то в капсуле, я не узнаю, что пришел мой черед пройти испытание. Так и не смогу попытать удачи, воспользоваться шансом преодолеть испытание и вырваться из лагеря…
Страшно остаться в лагере навечно. Навсегда застрять в этом проклятом герметичном коконе, из которого невозможно сбежать.
Мой гроб – один из тысячи, вмурованных в стены огромной хромированной спальни. Дверцы, дверцы, дверцы – сто рядов вдоль, десять вверх. В старинных видео так выглядят банковские ячейки. Или морг. И то, и другое теперь упразднено.