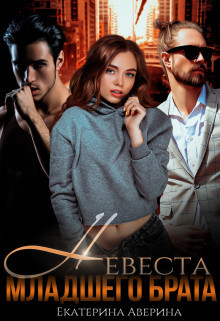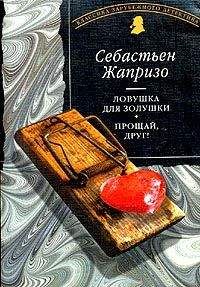движется, — философски замечаю я.
Но поглядеть — есть на что! Вторая луна пометалась (будто высматривая посадочные огни) — и выкатилась в чистое, незанятое тучами пространство…Но тут потихонечку стал звереть ветер; стекла еще не трещали, а вот рамы — поскрипывали.
Машка, пританцвывая, к окнам явно не торопилась…Что-то в ее голове звучало — более важное, чем очередные «роды природы». Рамы ее не слушались… Да и сама лна — никого не слушалась, кроме всеповелевающего танцевального ритма.
А я вдруг понял, что никуда мне не деться от этой штормящей грозы, от этих раскатов грома. УРАГАН (Смерч…Заозерное…Маяк) не только — в буквальном смысле! выбил почву у меня из под ног, но и напрочь отбил слух, вернее — свернул всякую тягу бесится от музыки. Я ЕЕ НЕ ОЩУЩАЮ. (Ну так, как Леха, например, который «танцует» торсом все, что слышит).
А я слышу только шум ветра, перестук дождя, скрип шагов, визг несмазанных петель на рамах + то, что делается вокруг природно; как ворчит Челюскин, забираясь в свое дупло — и как бранчливо шипит Дасэр, маленький водила большого человека, — со своей стороны отстаивающий свое право захватчика на это несчастное дупло. Но когда на скамью под липой садится наш местный хулиган Кирюша (с орущей музыкой!..) Я этого не понимаю. Я слышу — вот шум, вот какофония, вот кто-то там дерется, не поделив ноты. А саму мелодию — организм не принимает. Дядя Жора (с детства меня лечивший) говорит, что у меня — «музыкальная амнезия». Спасибо — что вообще не глухой!
Поэтому: все, что скрипит, топает, говорит — я слышу (вот, опять: «Хай-Тоба, Хай-Тоба, мы — идем…»), а что Машка напевает — плывем мимо! Я и Дикусю, ночующего на пляже, люблю потому, что по ночам он не ПОЕТ, а проговаривает все свои дневные впечатления. И без всякой «мандолины» в руках…Так что это — не совсем рэп. «Хорошим словам одеваться не к чему», приговаривает Дикуся.
А вторая луна шла и шла в гости, прожигая ореолом небесные хляби. Теперь это было кольцо, и оно — вращалось! Само по себе вращалось.
— Страх господень!.. — Сказала Машка голосом Зины-почтальонки. — Батюшки, что творится…Конец света!
И он наступил…
Громада тьмы обрушилась сразу. И ветер стал бить в окно — словно чужая, неведомая сторона жизни просилась внутрь. Почудилось — дом зашатало!
И молнии вызмеились — две одновременно! И синие расхристанные хвосты уже цеплялись за раму…Кто-то стучал к нам в окно: «Впу — сти — те…Впу — сти — те…».
— Данька, гляди!
Да я и сам уже видел. Это кольцо, (что вращалось, как полоумное) — уже висело перед самым окном. Вот это — финиш! Оно заглядывало к нам. Чего-то требовало.
— Приехали… — Просипела Машка, словно у нее и голос отнялся.
«Приплыли…», подумал я.
И вдруг все стихло. И снаружи ПОСТУЧАЛИ. Вполне по-человечески. Даже робко.
— Не пускать! — Взвыла сестрица. — Данька! МЧС, полицию, спецназ… — живо!
И запрыгала в поисках своего мобильного (а он у нее — всегда на груди).
А я — не спешил. Я услышал знакомый голос.
— Привет, — вымучил я. — Привет, Хай-Тоба.
— С кем ты говоришь? — Встрепенулась Машка.
«Мы — идем!», ответили мне. И я понял, что — наконец-то! сошел с ума (как и предрекал наш опекун дядя Жора). Он так и говорил: «Сначала ты УСЛЫШИШЬ голоса, а потом их — УВИДИШЬ.»
…Нерешительно стронулись с места створки окна (словно их кто-то придерживал в ладонях). И тут же в узкую щель протиснулась нахальная клешня мрака. И оттуда — будто зеленая молния! что-то спрыгнуло мне на темечко, потом — врезалось в Машкин айфон — и забилось, затаилось где-то в недрах комнаты.
Тогда я спокойно перегнулся и сдвинул створки рамы (отрубив от «клешни» большой коготь…). Потом я сделал то, что делал каждый вечер: глянул на себя в темную прорву окна. И увидел дурака, испугавшегося грозы.
Развернувшись, я направил коляску к сестре. Тишина меня напугала. Да и Машка, честно сказать… Стоит, как зомби — и глаз не сводит с моего стола. А на столе — подумаешь, ужас! гуляет кузнечик. Кузнечик как кузнечик, разве что чуть крупнее обычного. Наверно, ему буря мозги повредила: и лапки, гляди! разъезжаются, и головой непрестанно трясет — как баба Улька из верхней квартиры.
— Выкинь его! — Очухалась сестрица. — Немедленно выкинь эту пакость!..
Пакость, ага. А паук Сережа в ванне — дар небес?
Я не сводил с него глаз. Мне показалось, что он — раскланивается, держа на отлете невидимую шляпу.
— Чем он тебе помешал, старая вздорная мымра? (Одно из ее домашних прозвищ: кстати — успокаивает…)
— Он — …страшный! И появился неожиданно. — Голос Машки окреп, но суетливость в жестах осталась. — Ты видел где-нибудь, чтобы насекомое не боялось людей…Ты — присмотрись: он как хозяин бродит. Он — мутант, говорю тебе! Ой, он сейчас прыгнет…
И он — прыгнул! Он прыгнул мне на плечо.
— Царь Даниил! — Взмолилась Машка. — Я же теперь не засну: хоть убей!
…Когда это ее самочувствие меня волновало, скажите?
— …У него, может, семья за окном: детки плачут, мамку ждут… — Продолжала Машка свою ахинею. — Им же плохо без мамки.
— Да? — Удивился я.
— Ну хочешь, я сама его выброшу… Через дверь, конечно.
— Зачем? — Я уже цапнул живой трофей.
— Нет, царевна Марья, сделаем по-другому. Он же — необычный, правда? Крупнее и …общительнее. Вдруг — это очень редкий вид? Наш дядька Мотыль не поскупится.
— «Блуждаете во мраке, юноша!». Правильно папа говорит.
Но для меня Родитель№ 2 — не указ. Тут больше бобо Худай подойдет:» Не слушай женщин, джигит, и тогда останешься мужчиной.»
И я подкатил к нашему трехстворчатому монстру, открыл древнюю, как мир, дверцу — и зашвырнул туда добычу. «Ступай к Филимону!».
А утром я проснулся в дурдоме. Правда, я там никогда не был, но у меня же есть старшая мудрая сестра, которая знает все в этом мире (правда — не точно…).
На цыпочках она прокралась в мою комнату. Тихо — не скрипнув! потянула на себя тяжелую дверцу — так, немного, где-то на четверть ладони, — и строго приказала; «Эй, ты где? Давай быстрее — на свободу! В поля, луга, пампасы…».
И отбежала к окну, распахнула в во всегдашнюю ширь — и, приманивая рукой, еще раз позвала:» Цып-цып, насекомое… Или ты хочешь к злому дядьке — в «зоокружок»?».
Но терпение — оно не вечное (особенно в августе, на исходе жары, когда тебе — дуре! семнадцать