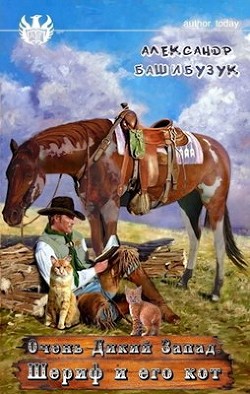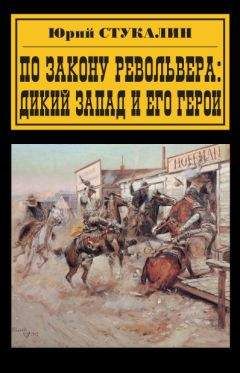- Правила простые, - Эдди подхватил их под руки и увлек куда-то по темному узкому коридору. – Стрелять, применять магию и вообще что-то, что может повредить поезду, нельзя. Бить морду можно, но если в процессе что-то повредится, то или плати…
- Или?
- Или высадят. За магию и стрельбу просто высадят. А места тут такие… в общем, сидите смирно. Ешьте. Отдыхайте. Если вдруг выйти куда, к нужнику, то, Милли, только с ним! Я серьезно!
Милисента кивнула и буркнула:
- А ты куда?
- Пойду, побеседую. Итон – мужик толковый. Ну… относительно других. И слышит многое. Если кто и в курсе, чего там в городе творится, то он. Только вы тут того…
- Не беспокойся, - заверил Чарльз.
- Я серьезно. Никакой магии. А то ведь…
Договорить он не успел, потому как поезд содрогнулся, что-то загудело, затрещало. Следом раздался протяжный скрежет, от которого заломило зубы. Потом последовал рывок, едва не сбивший с ног.
Тронулись.
Я сидела, смотрела в окно, на проплывавшую мимо пустыню, и жевала булочку. Признаться, именно сейчас я ощущала дивное умиротворение и была всецело довольна жизнью.
Даже счастлива.
Почти.
Абсолютности счастья несколько мешала унылая рожа Чарли, который и пустыней не любовался, и булочки брал двумя пальцами, с таким выражением, будто кому-то услугу оказывает. Ага. И чего, спрашивается? Отлично ж едем.
Всяко лучше, чем на лошади.
Не надо думать, что я совсем дикая. Я поезда видывала. И ездила даже. Правда, с лошадьми, потому как и надежнее оно, и дешевше, и других вагонов к нам не цепляют. Это уже в Чикентауне можно поглазеть на иные, и вагоны, и поезда. Эдди, помнится, еще тогда рассказывал, будто бы есть такие, в которых не солома на полу, а ковры лежат. И еще диваны имеются.
Я не поверила, думала, шутит. А оно вот как.
И вправду имеются.
Я даже пощупала диван, обитый красной кожей. Да, потертая, а местами и латаная, но ведь сам-то диван хорош, мягонький, упругонький, небось, отменным конским волосом набит, а не всякой дрянью. Я даже подпрыгнула пару раз.
Ковер тоже имеется. Правда, не понять, то ли красный, то ли бурый, но ведь лежит же ж!
А еще стол.
На столе еда. И высокие стаканы в серебряных подстаканниках. Чай крепкий, до черной густоты. Рыбный суп наваристый. Хлеб свежий. Булочки опять же. А этот вот кривится.
И шеей крутит.
И не понять, что ему не так. Глядеть на мрачного графчика надоело, и я опять в окно уставилась. Третий час уже идем. И пора бы Эдди вернуться. А он все не возвращается, оттого в душе появляется некоторое беспокойство.
Но я сижу.
Ем булочку. Уже сыта, но все равно ем. Оно никогда ведь не знаешь, когда опять случиться нормально поесть. За окном же… окна в вагоне тоже знатные. Со шторками. И можно закрыть, тогда становится сумрачно, или вот открыть.
В пустыню мы вошли час тому.
Сперва прерия полысела. Травы стало меньше, то тут, то там сквозь нее проглядывали проплешины бурой земли, которые разрастались, сливаясь одна с другой. И вот уже травы не стало вовсе, а земля почернела, будто спеклась. Ее разломили трещины. И сквозь них время от времени прорывались клубы пара.
Глядеть на это было до жути занятно.
А еще чувствовалось что-то такое, этакое, непонятное. И чем дальше ехали, тем сильнее чувствовалось. Будто кто под кожу муравьев пустил.
Поезд загудел и прибавил ходу.
А пустыня… я всегда-то думала, что пески, они желтые. Как на картинках в той книге, которую мне мамаша Мо совала, чтоб я прониклась и открыла душу истинной вере. Там, помнится, кто-то долго по пустыне ходил. Помню только, что очень эта мне пустыня понравилась.
Желтенькая. Чистенькая.
Так вот, ничего подобного. За окном простиралась сизо-черная гладь, на которой ветер рисовал узоры. Небо и то сделалось будто бы серым, блеклым.
Я поскребла стекло, убеждаясь, что оно толстое, надежное.
- Ты бывал в пустынях? – поинтересовалась у графчика, который-таки обратил на пустыню внимание и теперь сделался еще более мрачен.
- В таких – нет.
- А в каких бывал?
Матушка говорила, что человек вежливый и воспитанный сумеет увлечь другого приятной беседой.
- В нормальных. В нормальной. Служить как-то довелось. Там не то, чтобы пустыня. В саму пустыню не заглядывали, но вот рядом часть стояла.
И опять замолчал.
Мне что, каждое слово из него вытягивать? Графчик, кажется, понял, чем я недовольна и вздохнул.
- Если там был мертвый город, то я не знаю, как эти земли назвать. Разве ты не чувствуешь?
- Что именно?
Чувствовала я много чего. Полный желудок. Усталость легкую. Желание поспать. Ну и почесаться, хотя последнее сдерживала изо всех сил. Вона, как смотрит. Еще решит, будто я заразная.
- Тут все весьма индивидуально. Я ощущаю на себе взгляд. Такой, оценивающий.
- А мурашки под кожей считаются?
- Несомненно.
- Тогда чувствую, - сказала я и все-таки поскреблась. Осторожненько. – И отчего это?
- Это… скажем так, подобные ощущения я испытывал только в одном месте, - графчик подвигал челюстью, будто решаясь. – На острове Харт.
Ничего не поняла, но…
Ветер ударил в окно, сыпанул горсть мелкого то ли песка, то ли пепла. И я потребовала:
- Рассказывай.
Глава 31 В которой рассказывается страшная история одного острова
Глава 31 В которой рассказывается страшная история одного острова
Рассказывать.
Наверное, рассказать можно, хотя, конечно, матушка не одобрила бы. С молодыми девушками не говорят о вещах подобных. И те, другие, из прошлой жизни Чарльза, которая уже самому ему казалась ненастоящей, никогда бы не стали слушать.
А он не стал бы говорить.
- Это остров…
- Я поняла, - Милисента протянула булочку. – Ешь. А то мало ли, как оно потом.
И Чарльз взял. Он был сыт, пожалуй, даже более чем сыт, но, кажется, в этом «мало ли, как оно потом» и заключена вся местная мудрость.
- Когда-то он принадлежал человеку. Был куплен у орков в те времена, когда они полагали, что земли много. И продавали щедро.
- За бусы?
- И за бусы, и за топоры, и… не важно.
- Ну да…
Почему-то стало стыдно, хотя сам Чарльз к тем временам и сделкам отношения не имел.
- Главное, что он этот остров продал городу. А город устроил приют для трудных подростков. Потом там была лечебница для душевнобольных. Дом призрения… ну и кладбище, куда свозили бродяг и нищих. Потом хоронить стали больше. Жертвы эпидемий тифа и холеры, те, кто догорал от туберкулеза, младенцы, родившиеся мертвыми. Одно время и вовсе переселяли еще живых людей, силясь остановить очередную эпидемию[1]. Или тех, кому не место среди приличных граждан. Постепенно остров стал одним большим кладбищем, куда свозили всех неприкаянных мертвецов.
Она слушала внимательно.
Как сказку.
Только сказка вышла страшноватой.
- Нас отправили студентами, на практику, - Чарльз ненадолго замолчал, сам удивляясь тому, как давно это было. – Сам остров невелик. И нет там ничего жуткого. На первый взгляд. Напротив. Он зеленый. Яркий. Нарядный.
Паром тяжко пыхтит, но ползет по глади залива. И остров проглядывается где-то вдалеке полоской зелени. Сбившиеся на палубе студенты тычут друг друга, мол, видишь?
Видит.
- Там неплохо сохранились старые здания. Храм. И остатки корпусов больницы. Есть одичавший парк. Казармы, в которых нас разместили.
Чарльз не сразу понял, что не так.
Почему все вдруг замолчали. И отступили, будто разом схлынуло прежнее любопытство. Стало тихо-тихо. А потом вдруг навалилась тоска. Будто кто-то взял да содрал с души покровы, обнаживши самую суть. И в ней-то плеснул болью.
Чужой.
Это Чарльз понимал явственно. Он даже отдавал себе отчет, что испытываемые эмоции – наведенные. И знал, что нужно поднять щиты.
Все знали.
Им говорили об этом и не единожды. И всего-то нужно было, что протянуть руку к амулету, коснуться, активировать. А он стоял и дышал ртом, пытаясь справиться с этой чужой болью.