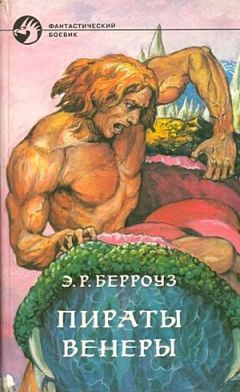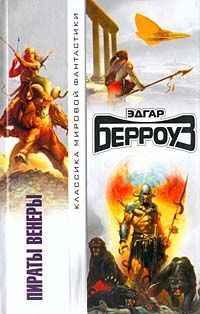фрукты, ягоды и орехи в изобилии росли на деревьях. Опасных зверей мы больше не встречали.
Невзирая на все тяготы и опасности, которым мы подвергались на каждом шагу, из уст Дуаре я не слышал ни одной жалобы на коммунальную жизнь. Она сохраняла бодрое расположение духа, без устали раздувала костры, терла мне спину в ручьях, следила за распорядком. И все время заставляла работать мозгами, искать решение нашей проблемы — хотя надежды на то, что мы когда-нибудь сможем достичь той далекой страны, где ее ждал отец, таяли одна за другой. Иногда она подолгу сидела, не произнося ни единого слова. Я понимал, что сердце ее терзает печаль, но она никогда не пыталась поделиться со мной своими чувствами. Дочери джонгов, скажу я вам, это такое мучение… Ну такой несгибаемый материал, что хоть плачь.
Скоро Дуаре и заплакала.
Ее нервы не выдержали, она села и разрыдалась. Это было так неожиданно, что я в первый момент растерялся и тупо смотрел на нее, не зная, что сказать. И все ведь в порядке, мужик не злой, не колотит, планово пристает, но не больше пяти минут в день, а пережмет — отлетает до ближайшего дерева. Смотрел я, смотрел, пока наконец не выдавил из себя:
— Детка, мне что-то не нравится настроение на борту. Что такое? В чем дело? У нас штормит? Может быть, я давно не пытался прижать тебя к дереву? И тебе потому плохо?
Она отрицательно покачала головой, но проглотить своих слез не смогла.
— Не могу больше видеть этот чертов лес! Он не кончается!
— Спокойно, товарищ…
— Может быть, он вообще никогда не кончится! И преследует меня даже во сне, — крикнула она и вскочила, тряхнув головой, словно отгоняла нахлынувшие видения. Потом пошла за ближайший кустик в расстройстве, припудрить нос…
— А ты ругайся, товарищ, — предложил я, лисой крутясь вокруг куста, но ощущая себя джентльменом, который никогда не помешает возлюбленной пудрить носик. — Хочешь, оснащу твой словарь новыми словами и выражениями моряков разных широт?
— Это ругательства?
— Да! Отличные ругательства! Здорово облегчают. И душу, и вообще… общее состояние. Например, сказать «мне жаль, что я не знал вашу маму» — это страшное выражение, знаешь. Особенно если еще поднять вот так средний палец из кулака… Ну, это тебе еще рано. Или другое — «морская пехота». Действие великолепное. Или: «Не пошли бы вы, сэр, за редькой?»
— За редькой?
— Да, редька… это такое, знаешь…
— Млекопитающее?
— Ну, конечно. Которая хрена не слаще.
— «Хрена» — тоже?
— Да, дорогая. Когда прижмет, пользуйся. С «хреном» осторожней, он растет не везде, а в остальном — ни в чем себе не отказывай, — я почему-то развеселился. И уже со смехом заявил: — Пойми, детка, когда-нибудь мы будем вспоминать эти дни как самое лучшее наше общее приключение. И мне даже жаль, что скоро оно кончится, не может же такое счастье продолжаться вечно. Скоро все кончится.
— Как скоро? — уточнила она. — Насколько скоро?
— Свой гребень не успеешь сломать, товарищ. И потом, не забывай, что этот лес дал нам приют и пищу.
— То же самое можно сказать про тюремщика, — возразила она и вдруг очень просительно взглянула на меня. — Он тоже кормит и бережет узника, приговоренного к смерти… Почему я все время о смерти, Карсон? Меня убьют, если узнают, что я жила с тобой. В лесу!
— Ты жила не со мной. Ты жила под моим присмотром в лесу. Это разные вещи.
— Ну почему я дочь джонга?
— Это ты спросишь у папы, когда вернешься…
Я и вправду не знал, почему она дочь джонга, поэтому мы двинулись дальше, как шли. По звериной тропе, сквозь колючие заросли. Мне кажется, именно эти кусты, плотно окружавшие нас со всех сторон, так давили на психику. На меня, по крайней мере, они всегда производили удручающее впечатление, как тюрьма — на тюремного доктора. Я приучил себя к выдержке. Но вот именно что приучил. Я ж изначально был нервный. Обстановка по жизни такая, что мне раз плюнуть — взорваться, потом по стенкам не собрать.
Дорожка стала достаточно широкой, чтобы можно было идти бок о бок, не спихивая друг друга с тропы. Идти, утешать друг друга, руки периодически на что-нибудь теплое класть. Ну как бы помогаешь идти товарищу, следишь за безопасностью движения. Миновав еще один поворот, мы застыли в изумлении — страна чудес, погляди, Алиса! Пока мы шли, лес-то взял и кончился!
Перед нами выпуклой, колеблющейся в границах, сияющей чашей раскинулось огромное пространство незнакомой пустоты, а за ним, за пространством за этим, где-то далеко-далеко и кругло написалась, тоже сферою, картина маслом — скопление лиловых гор.
Ну и красотища же! Мы пораженно застыли, не в силах вымолвить ни слова. Спугнуть воздух, что ли? Над нею. Над картиной живою. Воздух сам. По которому, как круги по воде, от нашего взора ли, от иных дуновений — зримо побежали к краям, в несуществующий горизонт, волновые колебания. И забеспокоились густо да мутно розовые пряди слоистых туманов, дали на западе — зелень, а на востоке — лазурь. Чу! Застыли даже мы. Застыли, как две фигурки из глазури: только что были пластичны и живы, ругались, ерошились, себе сочувствовали — обычные люди, которых всякий миг можно перенастроить, перелепить, путешественники недоброю волей, а вот те и на, окостенели в глазурь.
Так едва дышишь над калейдоскопом с каким-нибудь видом. Замираешь от непосредственной близости стрекозы с ее синим слюдянчатым фюзеляжем, голубыми рулями и крючочками шасси. От непередаваемого аромата. Предощущения конца. Вкуса последней оливки, разжеванной незадолго до того, как. Или вида океанической бездны да небесных широт. Так сминаешься в точку от понимания каких-либо крохотных частностей в общей картине мирового устройства, каким-то загадочным образом связанных лично с тобою. Думаю, боязнь разрушить какое-нибудь совершенство — безусловный рефлекс. Я уверен, да-да, уверен Карсон Нейпир, что боязнь разрушения природы ли, состояния или формы, видимо, свойственна человеку в той же степени, как набор основных побуждений, отличающий его от животных. И так же безотчетно силен. Правда, у большинства из нас этот инстинкт остается на уровне боязни, когда глаза боятся, а руки делают. И что же, разрушаем…
Тропа вела нас дальше до самого обрыва, который спускался круто вниз километра на полтора. Там, внизу, перед нашими глазами раскинулась широченная долина. За ней виднелись эти фиолеты, туманные очертания гор, во все стороны расстилаясь до самого горизонта, исчезая вдали.
Во время наших блужданий по лесу мы, сами