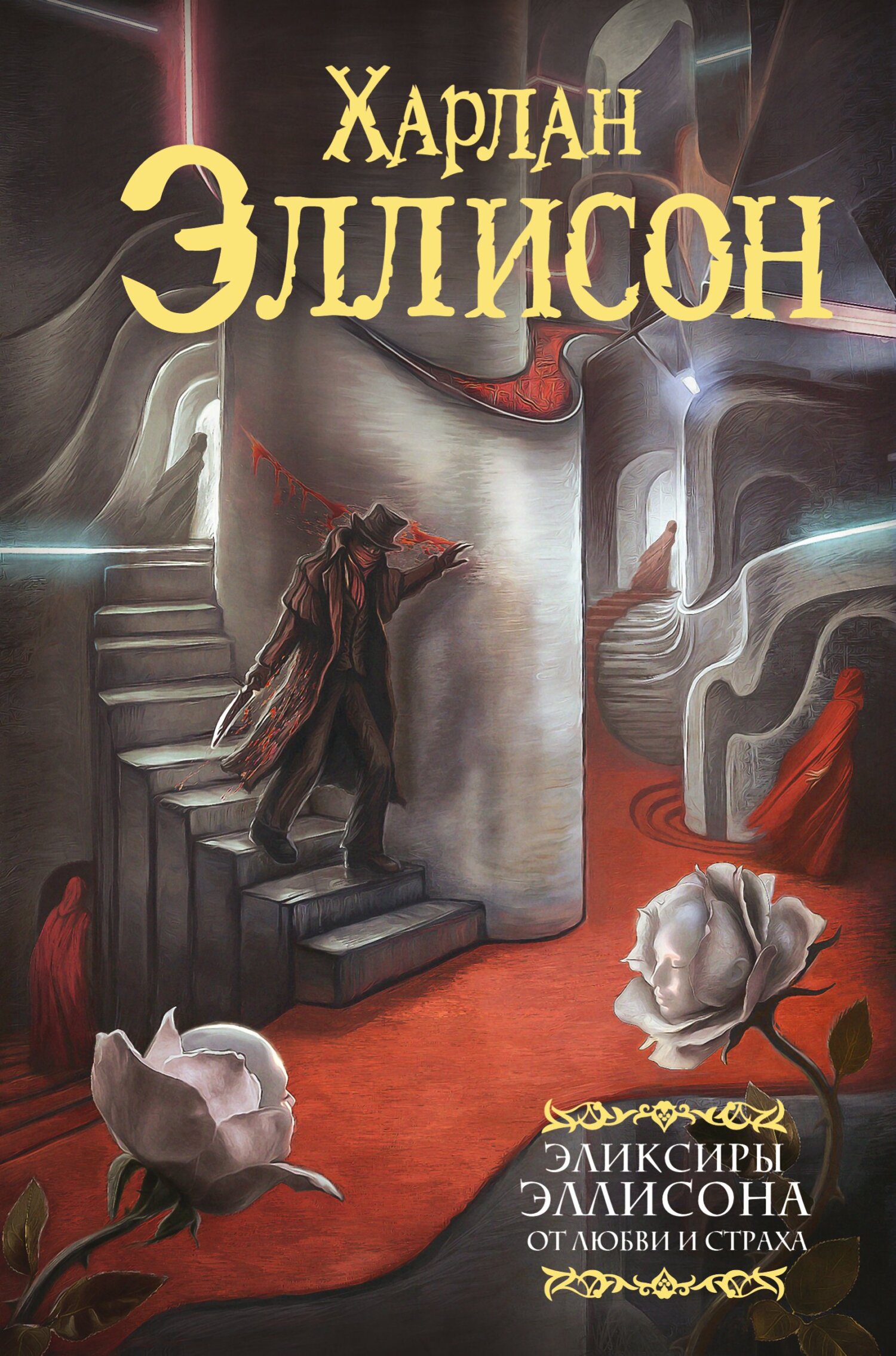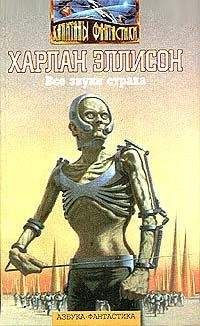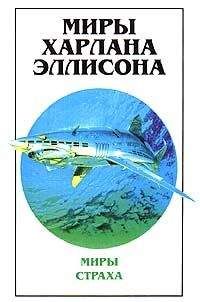Я открыл и оказался лицом к лицу с двумя полицейскими городского отдела полиции, но в штатском. Они попросили разрешения войти. Я подумал, что это розыгрыш и попросил продемонстрировать свои значки. Они сунули мне под нос удостоверения, и я пустил их внутрь.
Они вели себя достаточно мило, присели и поинтересовались, нет ли у меня врагов. Я широко улыбнулся.
– Я веду нормальный образ жизни. Думаю, врагов у меня не больше и не меньше, чем у любого нормального человека.
Ответной улыбки я не дождался. Они спросили меня, давно ли я живу в доме 95 по Кристофер-стрит, и не знаю ли я кого-нибудь, кто хотел бы причинить мне вред. Я ответил на вопрос, как давно живу в своей квартире, поскольку переехал я сюда из Чикаго, и единственный, кого я знал, и кто невзлюбил меня настолько, что мог бы подложить мне свинью, был Кен Бейлз.
Они спросили меня, употреблял ли я когда-нибудь наркотики.
Я даже не нашелся, что им ответить.
Друзья – те, что знают меня достаточно хорошо – часто считают меня фанатиком, настолько я ненавижу всякого рода дурь. Один из моих приятелей экспериментировал с веществами, и вдвоем с другим моим другом, джазовым критиком по имени Тэд Уайт, мы пригрозили выбить ему все зубы, если он хоть на пушечный выстрел подойдет к этой дряни. Наркотики? Блин, да ни за что… Я даже кофеина в таблетках не пользую.
Я сказал им, что никогда не имел дела с наркотиками и почувствовал, что выпалил это как-то слишком поспешно. Я спросил их, что вообще происходит, и обвиняют ли меня в чем-нибудь. Я заметил, что они внимательно смотрят на меня, особенно на руки и ноги. В момент, когда они пришли, я как раз мыл ванну, поэтому на мне не было ничего, кроме закатанных до колен пляжных штанов. В общем, они могли убедиться, что отметин от иглы у меня на теле нет.
Тут мне, наконец, сообщили, что в отделение полиции на Чарльз-стрит поступила анонимная информация о том, что писатель по фамилии Эллисон, проживающий на Кристофер-стрит, 95, устраивает оргии с наркотиками, держит дома целый склад героина, а также обладает арсеналом летального оружия.
Я знал, что настучал Бейлз, но доказать этого не мог.
Выслушав их, я предложил им обыскать мою квартиру. Они сказали, что так и так собирались сделать это, но рады, что я сам предложил, а значит, им не нужно отъезжать за ордером.
Почти час они обшаривали мою полуторакомнатную квартиру и, естественно, ничего не нашли. Потом они вернулись в гостиную и сели на свои места.
Старший полисмен спросил, не держу ли я в квартире пистолета. Мне пришлось даже напрячь мозги. Мне и в голову не приходило, что незаряженный револьвер двадцать второго калибра, который я на протяжении семи лет использовал в качестве наглядного пособия, является летальным огнестрельным оружием, подлежащим в штате Нью-Йорк обязательной регистрации.
– Ну, – произнес я, подумав немного, – есть у меня кое-какое оружие, которым я пользовался на лекциях о проблеме детской преступности, – и показал им мои книги.
Они попросили показать им это оружие.
Я пошел в кладовку, нашел в кармане висевших там штанов ключ и отпер шкаф с документами. Там, в глубине, под стопкой бумаг (лекций к тому моменту я не читал шесть, если не восемь месяцев) я нашел пистолет, нож, штык и два кастета. (Второй кастет мне подарил студент из колледжа в Элизбеттауне, штат Кентукки, после моей лекции: доказать мне, что ареал детской преступности не ограничивается большими городами.)
Я вручил им все эти предметы, хотя штык и нож (не выкидной) в Нью-Йорке вполне законны и не требуют регистрации.
Они взяли их, и тут я вспомнил, что у меня и патроны к пистолету есть, и предложил показать их. Они сказали, что да, пожалуйста, и я откопал коробку патронов 22 калибра и протянул ее полисменам. Они понюхали пистолет.
– Когда из него последний раз стреляли? – спросили они.
– С тех пор, как он у меня – ни разу, – ответил я. – А у меня он семь лет. А что было с ним прежде – я не в курсе.
Коп с пистолетом кивнул второму и подтвердил, что, судя по запаху, не стреляли давно.
Мы побеседовали еще полчаса, но серьезность происходящего так до меня и не дошла. Я вполне законопослушный писатель, на законных основаниях обладающий всеми этими причиндалами, а анонимный звонок – чистый бред, попытка чокнутого идиота поставить меня в сложное положение. Они согласились с тем, что, скорее всего, именно так все и обстоит, но, хотя они рады тому, что обвинение в хранении наркотиков оказалось абсолютно беспочвенным, им придется все же арестовать меня на основании акта Салливана за незаконное обладание пистолетом. Я чуть не упал, настолько абсурдным все это казалось. Насколько я мог судить, я не совершил ровным счетом ничего противозаконного, и все же меня собирались арестовать.
Они извинялись, они говорили, что не сомневаются в моей невиновности, но жалоба подшита к делу, и им ничего не остается, кроме как исполнить свой долг. Я пытался спорить, но все расшибалось о непоколебимость их долга.
В общем, я и спорить-то толком не мог.
Сейчас я понимаю, что со мной обращались предельно мягко и, насколько это возможно, справедливо. Я не могу и не буду называть имена этих двух полицейских, поскольку позже они помогали мне, насколько это было в их силах.
Мне посоветовали одеться, поскольку меня забирали из дома. Я ударился в панику. Моя мать, с которой мы не виделись три года, как раз приехала в Нью-Йорк с Запада и довольно скоро должна была зайти ко мне на обед. Я сразу представил себе, как мама приходит, не застает меня дома и понятия не имеет, куда я делся – и кто знает, сколько времени меня продержат за решеткой? Я спросил их, можно ли сказать друзьям, куда я исчез. Они ответили, что это разрешается.
В сопровождении одного из копов я спустился на этаж и сообщил знакомой соседке, Линде Соломон, что со мной случилось. Она решила, что это розыгрыш.
– Не дурите мне голову! – со смехом заявила она. Потом приоткрыла дверь пошире, увидела полицейского, и улыбка ее померкла.
Мы договорились, что она известит маму о происходящем, я вернулся наверх, оделся и поехал с полисменами.
Так начались двадцать четыре часа моего знакомства с неумолимым механизмом судебной системы Нью-Йорка. Двадцать четыре часа, на протяжении которых я исполнился такого безнадежного отчаяния, что временами мне казалось, я сломаюсь и развалюсь на